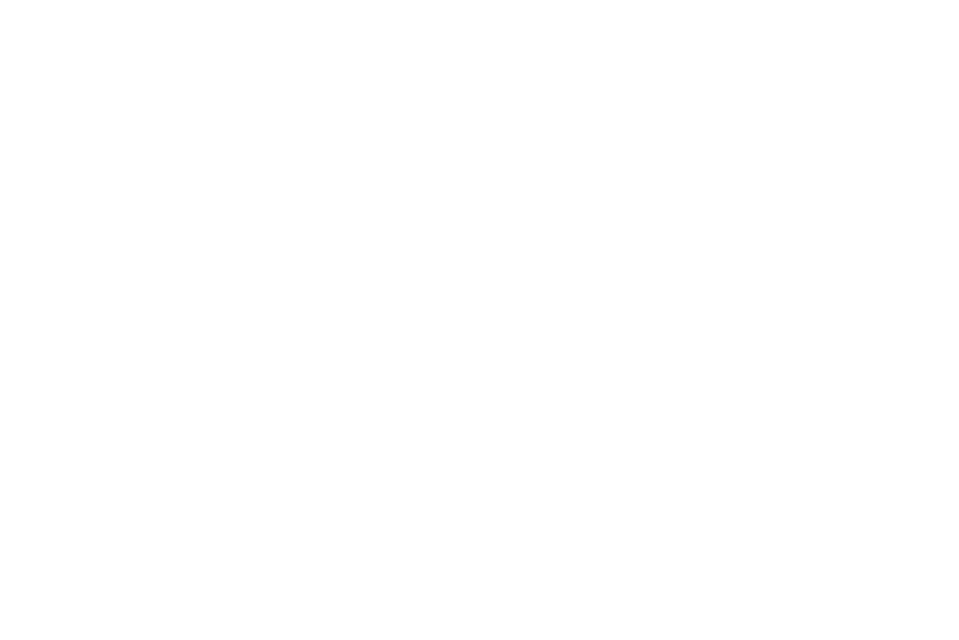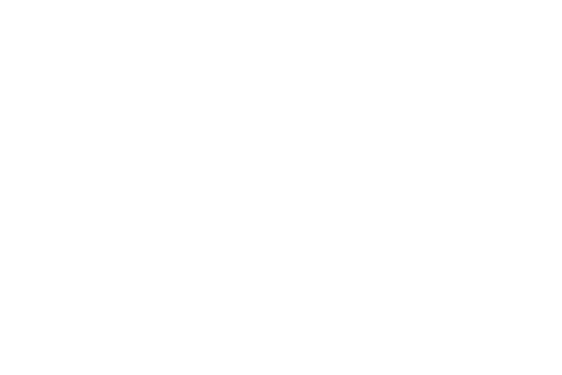Социальная практика
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА - это коллаборация Александры Налетовой (https://dancetherapist.wixsite.com/dancetherapist) и Ирины Иванниковой (iraivannikova.ru) по работе с темами идентичности, среды, коммуникации и их взаимовлияния через перформативные практики.
В наших практиках мы хотели дать голос разности, мы обозначили несколько тем, в которых она наиболее выпукло звучит: личное/публичное, действие/бездействие, особый/особенный, включенность/исключенность.
Мы хотели, чтобы наш проект был подвижным, то есть мог меняться под актуальные задачи времени. Поэтому мы постоянно что-то меняем, находим новую форму, чтобы сами практики подвижны и гибкие к контексту, с которым мы в данный момент работаем.
Мы сотрудничали с разными институциями: ММОМА, ГСЦИ, галерея Граунд "Ходынка", Музей Москвы (Центр Гиляровского), ФотоДепартамент, ЦТИ Фабрика, музей Гараж, фонд Четверг, Музеон, Аптекарский огород и др. И параллельно мы работаем как самоорганизация, что позволяет нам приблизиться к горизонтальным связям, которые также важны для нас в этом проекте.Диалог через перформативные практики позволяет нам отразить процессы, которые формируют «социальное» тело сегодня и создает новые структуры мышления, способные влиять на всю систему целиком. И это не про масштабы, а про ценность маленьких шагов в практике изменений.
Идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
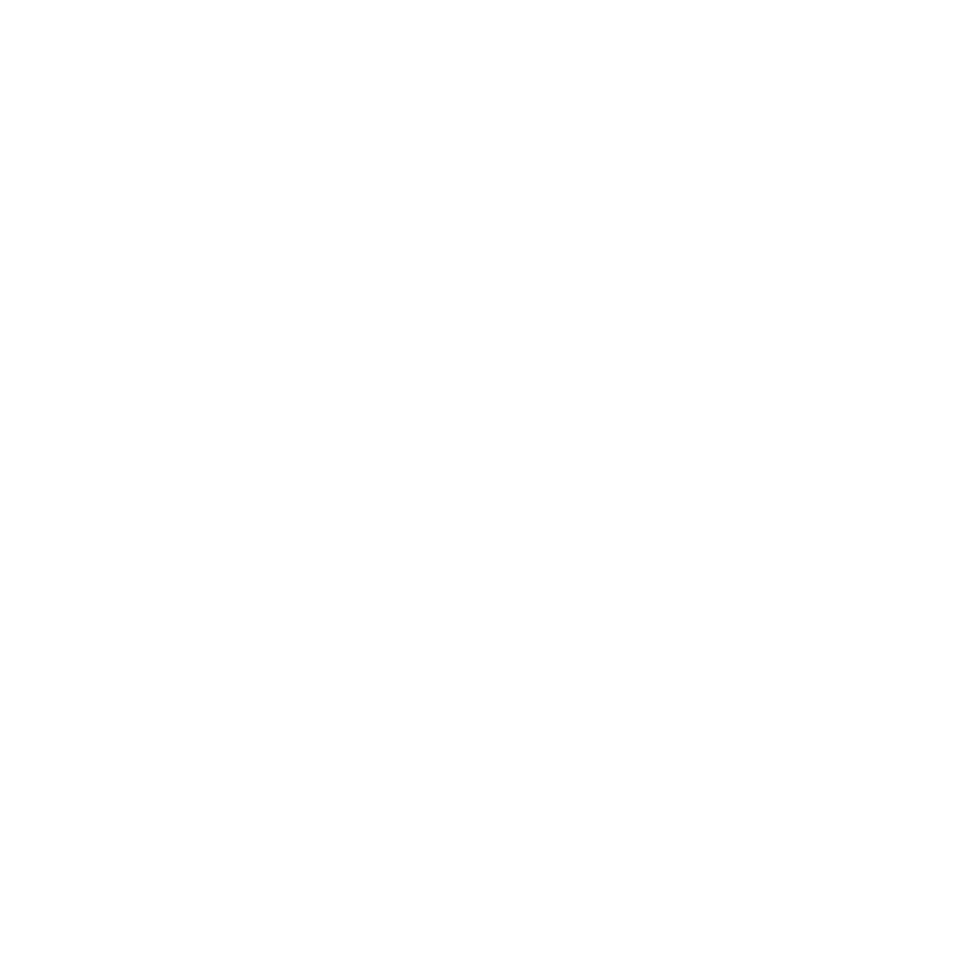
Ирина Иванникова
Медиа-художница, фотограф, перформер.
Преподаватель в Школе Дизайна ВШЭ, участница Collab 2024 ГЭС-2,
работы представлены в галерее Фотодепартамент.
сайт: iraivannikova.ru
Образование:
Работы были показаны:
Фестиваль "Медиаперформанса" ММОМА, г. Москва (2012), Фестиваль перформанса "Игра в классики" ММОМА (2013), Фестиваль "Перформативное искусство" г. Москва (2013), Мультимедиа Арт Музей "Современные российские художники" г. Москва (2013), Галерея Сколково "Медиапоэтические машины" г.Москва (2015), Электромузей "Цифровой поэт" г. Москва (2015), Electronic Literature Festival "Никакая это тут не утопия", Stiftelsen 3,14, Берген, Норвегия (2015), Галерея Фотодепартамент «Настоящее происходит» г. Санкт-Петербург (2016), Фестиваль современной фотографии "Присутствие" (Санкт-Петербург, 2019),"Паузы" ММОМА, (Москва, 2020) и др.
Образовательные тексты:
2017 - Концептуальное искусство и фотография
2017 - Фотография и перформанс
Книга:
Сборник АМПЛИТУДА №1, состоящий из 10 книг 10 российских авторов, работающих с фотографией.
Издание АМПЛИТУДА№1 вошло в шорт-лист мировой книжной премии
Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Award 2017, в разделе First Photobook&
Персональные выставки:
«ИГРА В ПУСТОТУ» / Новая Голландия, Летний Павильон / Санкт-Петербург, 2024;
«РЕМОНТ» / Галерея "ФотоДепартамент" / Санкт-Петербург, 2017;
«РЕМОНТ» /ЦИМ / Москва, 2022.
Групповые выставки:
2025
«Playful Phases» / Галерея 19 / Москва;
Перформанс «Стихийный рейв» / Галерея на Солянке / Москва;
2024
ОКТАВА, выставка «Близкие технологии» / Тула;
Перформанс-практика «Поле Бездействия», Архстояние / Николо-Ленивец;
Перформативный концерт DIY инструментов «Сказки Мира», композитор Владимир Горлинский; (курирование перформативной части проекта) / Электротеатр / Москва;
Ночь музеев в рамках выставки «Хаптика. Осязаемый мир.» галерея Краснохомская, курирование перформативной программы / Москва;
2023
«Звучит.» Галерея Краснохолмская / Москва;
«Пространство сообщения. От знака до ощущения.» Галерея Краснохолмская / Москва;
Перформативная практика Двигательные портреты / Еврейский музей и центр толерантности / Москва;
Перформативная практика Точки опоры / Еврейский музей и центр толерантности / Москва;
2022
«Со-создатели» / Ленполиграфмаш / Санкт-Петербург;
«Внешний шум, внутренняя тишина», Практика Бездействия / Фонд Четверг / Москва;
2021
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / музей Гараж / Москва
2020
ПАУЗЫ / ММОМА / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Фабрика / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / ММОМА / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Музеон / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Музей Москвы / Москва
Человек как мера / Музей Парка Горького / Москва;
Сайт-специфик выставка Морская линия / Севкабель порт / Санкт-Петербург;
2019
«Обратная перспектива» / галерея "Нагорная" / Москва;
Фестиваль cовременной фотографии ПРИСУТСВИЕ / Санкт-Петербург;
2018
«Соседи» в рамках Параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства / галерея "Нагорная" / Москва;
«Изолятор брака» / галерея "Перелетный кабак" / Москва;
«Волосы» / ММОМА / Москва;
«Тело текста» / Российской государственной библиотеки для молодежи / Москва;
2017
Персональная выставка «РЕМОНТ» / Галерея Фотодепартамент / Санкт-Петербург;
«Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту» / ММОМА / Москва;
«То самое сообщение» / галерея Богородское / Москва.
2016
«Настоящее происходит» / Галерея Фотодепартамент / Санкт-Петербург;
2015
Открытый урок школы перформанса Лизы Морозовой/ VPA SOLYANKA, Москва;
«Никакая это тут не утопия» / Галерея 3.14, Берген, Норвегия;
«Изображение как слово. Медиапоэзия как метод» / Лофт проект Этажи, Санкт-Петербург;
«Цифровой поэт»/ Электромузей, Москва;
Художественные сообщества Москвы / Музей Москвы, Москва;
Фестиваль 101. «Поэтика цифровых технологий» /
Новая сцена Александрийского театра, Санкт-Петербург;
«Вдохновение+алгоритм» / Skolkovo gallery, Арт-резиденция «Медиапоэтические машины», Москва;
«Взлом эфира» / Skolkovo gallery, Москва;
«Топография счастья» / Галерея на Шаболовской, Москва.
2014
Фестиваль «Лаборатория медиапоэзии» / ММСИ;
Фестиваль «Транслит» / Новая сцена Александрийского театра, Санкт-Петербург;
Фестиваль «CROSSCONTACT» / ЦДХ;
«Трансформация восприятия» / SOKOL CCA;
«Между Здесь и сейчас» / RANDOM Gallery.
2013
Фестиваль «Перформативное искусство» / Открытая сцена. Москва;
Открытый урок школы перформанса PYRFYR / VPA SOLYANKA, Москва;
Передвижной аукцион «Современные российские художники» / Мультимедиа Арт Музей, Москва;
Фестиваль перформанса «Игра в классики» / ММСИ, Москва;
Фестиваль «Медиапоэзия» / Открытая сцена, Москва.
2012
Фестиваль «Единство целых» в рамках III Биеннале молодого искусства/ ММСИ, Москва;
Фестиваль (UN)имация в рамках III Биеннале молодого искусства / ММСИ, Москва;
Московский международный фестиваль света. Проект Лаборатория света / ЦДХ, Москва;
ММФИР Открытые инновации. Проект Рацио/Эмоцио: чувства техонологий / Крокус-Экспо Москва;
Проект «Два вечера Перформанса» / Открытая сцена. Москва;
«Миражи» / Музейный центр РГГУ, Москва.
Преподаватель в Школе Дизайна ВШЭ, участница Collab 2024 ГЭС-2,
работы представлены в галерее Фотодепартамент.
сайт: iraivannikova.ru
Образование:
- Окончила Фотодепартамент, «Преодолевая фотографию» (2015-2016)
- Институт проблем современного искусства (ИПСИ)(2013-2015)
- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (2002-2007)
- Лаборатория Медиа-Перформанса при Московском Музее современного искусства (2011-2012)
- Лабораторию медиапоэзии г. Москва (2013-2015)
- Школу перформанса Лизы Морозовой "Performance Art studio"(2013-2014)
- Школу перформанса PYRFYR при Галерее на Солянке (2012-2013).
Работы были показаны:
Фестиваль "Медиаперформанса" ММОМА, г. Москва (2012), Фестиваль перформанса "Игра в классики" ММОМА (2013), Фестиваль "Перформативное искусство" г. Москва (2013), Мультимедиа Арт Музей "Современные российские художники" г. Москва (2013), Галерея Сколково "Медиапоэтические машины" г.Москва (2015), Электромузей "Цифровой поэт" г. Москва (2015), Electronic Literature Festival "Никакая это тут не утопия", Stiftelsen 3,14, Берген, Норвегия (2015), Галерея Фотодепартамент «Настоящее происходит» г. Санкт-Петербург (2016), Фестиваль современной фотографии "Присутствие" (Санкт-Петербург, 2019),"Паузы" ММОМА, (Москва, 2020) и др.
Образовательные тексты:
2017 - Концептуальное искусство и фотография
2017 - Фотография и перформанс
Книга:
Сборник АМПЛИТУДА №1, состоящий из 10 книг 10 российских авторов, работающих с фотографией.
Издание АМПЛИТУДА№1 вошло в шорт-лист мировой книжной премии
Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Award 2017, в разделе First Photobook&
Персональные выставки:
«ИГРА В ПУСТОТУ» / Новая Голландия, Летний Павильон / Санкт-Петербург, 2024;
«РЕМОНТ» / Галерея "ФотоДепартамент" / Санкт-Петербург, 2017;
«РЕМОНТ» /ЦИМ / Москва, 2022.
Групповые выставки:
2025
«Playful Phases» / Галерея 19 / Москва;
Перформанс «Стихийный рейв» / Галерея на Солянке / Москва;
2024
ОКТАВА, выставка «Близкие технологии» / Тула;
Перформанс-практика «Поле Бездействия», Архстояние / Николо-Ленивец;
Перформативный концерт DIY инструментов «Сказки Мира», композитор Владимир Горлинский; (курирование перформативной части проекта) / Электротеатр / Москва;
Ночь музеев в рамках выставки «Хаптика. Осязаемый мир.» галерея Краснохомская, курирование перформативной программы / Москва;
2023
«Звучит.» Галерея Краснохолмская / Москва;
«Пространство сообщения. От знака до ощущения.» Галерея Краснохолмская / Москва;
Перформативная практика Двигательные портреты / Еврейский музей и центр толерантности / Москва;
Перформативная практика Точки опоры / Еврейский музей и центр толерантности / Москва;
2022
«Со-создатели» / Ленполиграфмаш / Санкт-Петербург;
«Внешний шум, внутренняя тишина», Практика Бездействия / Фонд Четверг / Москва;
2021
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / музей Гараж / Москва
2020
ПАУЗЫ / ММОМА / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Фабрика / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / ММОМА / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Музеон / Москва;
Партиципаторный перформанс Практика Бездействия / Музей Москвы / Москва
Человек как мера / Музей Парка Горького / Москва;
Сайт-специфик выставка Морская линия / Севкабель порт / Санкт-Петербург;
2019
«Обратная перспектива» / галерея "Нагорная" / Москва;
Фестиваль cовременной фотографии ПРИСУТСВИЕ / Санкт-Петербург;
2018
«Соседи» в рамках Параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства / галерея "Нагорная" / Москва;
«Изолятор брака» / галерея "Перелетный кабак" / Москва;
«Волосы» / ММОМА / Москва;
«Тело текста» / Российской государственной библиотеки для молодежи / Москва;
2017
Персональная выставка «РЕМОНТ» / Галерея Фотодепартамент / Санкт-Петербург;
«Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту» / ММОМА / Москва;
«То самое сообщение» / галерея Богородское / Москва.
2016
«Настоящее происходит» / Галерея Фотодепартамент / Санкт-Петербург;
2015
Открытый урок школы перформанса Лизы Морозовой/ VPA SOLYANKA, Москва;
«Никакая это тут не утопия» / Галерея 3.14, Берген, Норвегия;
«Изображение как слово. Медиапоэзия как метод» / Лофт проект Этажи, Санкт-Петербург;
«Цифровой поэт»/ Электромузей, Москва;
Художественные сообщества Москвы / Музей Москвы, Москва;
Фестиваль 101. «Поэтика цифровых технологий» /
Новая сцена Александрийского театра, Санкт-Петербург;
«Вдохновение+алгоритм» / Skolkovo gallery, Арт-резиденция «Медиапоэтические машины», Москва;
«Взлом эфира» / Skolkovo gallery, Москва;
«Топография счастья» / Галерея на Шаболовской, Москва.
2014
Фестиваль «Лаборатория медиапоэзии» / ММСИ;
Фестиваль «Транслит» / Новая сцена Александрийского театра, Санкт-Петербург;
Фестиваль «CROSSCONTACT» / ЦДХ;
«Трансформация восприятия» / SOKOL CCA;
«Между Здесь и сейчас» / RANDOM Gallery.
2013
Фестиваль «Перформативное искусство» / Открытая сцена. Москва;
Открытый урок школы перформанса PYRFYR / VPA SOLYANKA, Москва;
Передвижной аукцион «Современные российские художники» / Мультимедиа Арт Музей, Москва;
Фестиваль перформанса «Игра в классики» / ММСИ, Москва;
Фестиваль «Медиапоэзия» / Открытая сцена, Москва.
2012
Фестиваль «Единство целых» в рамках III Биеннале молодого искусства/ ММСИ, Москва;
Фестиваль (UN)имация в рамках III Биеннале молодого искусства / ММСИ, Москва;
Московский международный фестиваль света. Проект Лаборатория света / ЦДХ, Москва;
ММФИР Открытые инновации. Проект Рацио/Эмоцио: чувства техонологий / Крокус-Экспо Москва;
Проект «Два вечера Перформанса» / Открытая сцена. Москва;
«Миражи» / Музейный центр РГГУ, Москва.
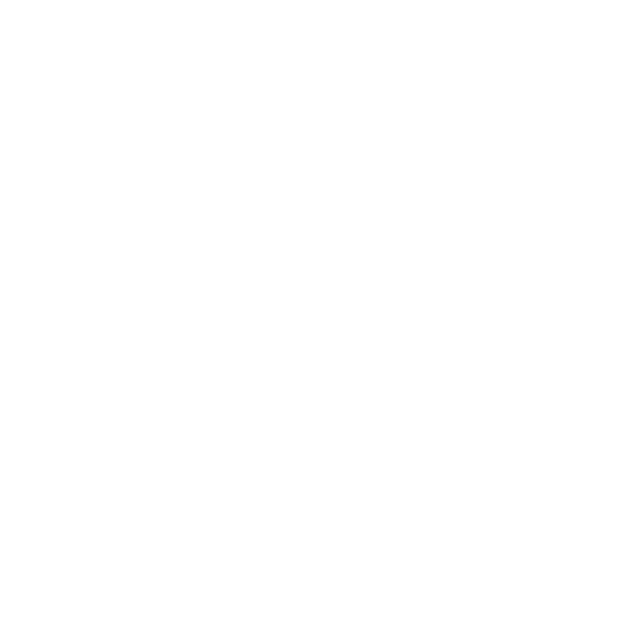
Александра Налетова
Танцевально-двигательный терапевт, практик аутентичного движения, терапевт выразительными искусствами, перформанс,автор и ведущая проектов по социальной практике движения и танца, терапевтических и развивающих программ для детей, подростков, взрослых, пожилых и семей.
Образование:
Профессиональная деятельность:
Образование:
- МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет ( кафедра философской антропологии), специализация - антропология телесности, дипломный проект: " Антропология пола. Проблемы половой идентификации. Транссексуалы и Трансвеститы" . Научный руководитель проф. П.Д. Тищенко ( Институт Философии РАН, отделение биоэтики и гуманитарных экспертиз)
- Институт практической психологии и психоанализа, кафедра танцевально-двигательной терапии, специализация - развитие навыков невербальной коммуникации, дипломный проект: " Развитие навыков невербальной коммуникации в группах ТДТ у пациентов с диагнозом шизофрения, находящихся в состоянии ремиссии". Руководители дипломной и супервизорской практики И.В. Бирюкова, М.В. Бебик, А.В. Буренкова
- School of playback theatre (NY), специальность актриса, тренера: Йозеф Паради (Венгрия), Петрос Теодору (Греция), Авива Апрель Розенталь (Израиль), Джонатан Фокс (США, основатель play back theatre), 5 летняя практика в Театре Зрительских Историй ( Москва ).
- Базовая сертификация по системе Анализ движения Рудольфа Лабана и Основы Бартеньефф, курсы Хилари Брайен, Кандзи Пенфилд
- Курс Бонни Берстин «Метод Бланш Эван в танцевально-двигательной терапии: теория и практика»
- Повышение квалификации в Международной программе « Основы мультимодальной терапии творчеством. Игра Воображения и Выразительные искусства в практике помогающих отношений» (ИППиП — Россия, Институт Терапии Выразительными искусствами « L `Atelier» – Швейцария), педагоги: Паоло Книлл ( основатель EXAT), Изабель Шенкель, Жак Стикельман, Кит Лоринг, А. В. Буренкова, И.В. Бирюкова, специализация: Community Art
- SAFE – Грамматика Воспитания ( LMU – Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана), курс проф. К.Бриша
- Performance Art Studio, практика и обучение перформансу c 2008 года, курс Е. Морозовой
- Танец и двигательные культуры в истории и современности ВШЭ ( Высшая Школа Экономики) , курс И. Сироткиной
- Курс " Нейронауки и танцевально-двигательная терапия" ( ИППиП, Москва )
Профессиональная деятельность:
- Частная танце-терапевтическая практика ( групповая и индивидуальная )
- Автор и ведущая проектов по социальной практике движения, развивающих и терапевтических программ для детей, подростков, взрослых, семей: www.dancetherapist.ru
- Со-автор и ведущая семейного танцевального проекта DANCE FAMILY DAY
- Автор и ведущая детского проекта ART-KLASS
- Основательница студии по танцевально – двигательной терапии TDT STUDIO 1
- 3х летнее участие в проекте кафедры ТДТ (ИППиП) и РБОО «Семья и психическое здоровье» по работе с ТДТ-группой взрослых с психиатрическими диагнозами в клубе «АНИМА»
- 3х летняя арт- терапевтическая практика в Российской Детской Клинической больнице ( РБКБ )
- Участие в проекте кафедры ТДТ ИППиП по работе с детьми с аутистическим спектром расстройств в центре «Наш солнечной мир»
- Президент Ассоциации танцевально-двигательной терапии 2013 - 2020 гг.
- Преподаватель международной программы профессиональной переподготовки «Основы мультимодальной терапии творчеством. Игра Воображения и Выразительные искусства в практике помогающих отношений», (ИППиП — Россия, Институт Терапии Выразительными искусствами «L `Atelier» – Швейцария)
- Сотрудничество с Еврейским Культурным Центром: тренинги с детскими группами по развитию навыков коммуникации
- Сотрудничество с фестивалем инклюзивного танца INCLUSIVE DANCE: проведение танце-терапевтического занятия для участников фестиваля
- Сотрудничество с центром современного танца и перформанса ЦЕХ — проведение семейного танцевального проекта DANCE FAMILY DAY
- Сотрудничество с музеем современного искусства «ГАРАЖ», воркшопы в рамках проекта «ГАРАЖ ДО 18»
- Сотрудничество с Домом Танца в Культурном Центре ЗИЛ в рамках проекта Weekend современного танца
- Преподаватель образовательного семинара по танцевально-двигательной терапии в рамках Летней школы по арт-терапии (Российская Ассоциация арт- терапевтов)
- Сотрудничество с Образовательным центром ММОМА ( Москва ), воркшоп для детей «Линии: характер и особенности»
- Сотрудничество с ГЦСИ ( Москва ), проведение Арт Прогулки в Аптекарском огороде в рамках выставки «Искусство Быть»
- Сотрудничество с Музеем Москвы, проведение практики "Путешествие на одном месте. Практика повседневных ритуалов" в рамках программы Центра Гиляровского "Есть контакт! Практики повседневности".
Определение перформанса
Перформанс
Роузли Голдберг
1 определение
Сама природа перформанса не допускает точных или удобных дефиниций помимо того нехитрого заявления, что это живое искусство в исполнении художников. Более строгое определение немедленно свело бы на нет саму возможность перформанса. Ведь он, не задумываясь, делает заимствования из всевозможных дисциплин и медиумов - литературы, поэзии, театра, музыки, танца, архитектуры и живописи, а также видео, кино, фотографии и повествований, - используя их во всевозможных комбинациях. По сути, столь неограниченным набором принципов не обладает никакая другая форма художественного выражения, и каждый автор перформанса, в процессе его осуществления и с присущей ему манерой исполнения, формулирует его определение по-своему.
2 определение
Последующее издание высветило роль перформанса в разрушении барьеров между "высоким искусством" и популярной культурой. В нем было продемонстрировано и то, как присутствие живого художника и акцент на его теле стали основными в понятии "реального" и как под влиянием этого сформировались видео-арт, жанр инсталляции, а также художественная фотография конца ХХ века.
3 определение
В ХХI веке резко выросло число художников по всему миру, обращающихся к перформансу, - медиуму, который позволяет выражать "различия", присущие их собственной культуре или этнической принадлежности, и дает возможность присоединиться к более широкому дискурсу глобальной международной культуры.
Роузли Голдберг
1 определение
Сама природа перформанса не допускает точных или удобных дефиниций помимо того нехитрого заявления, что это живое искусство в исполнении художников. Более строгое определение немедленно свело бы на нет саму возможность перформанса. Ведь он, не задумываясь, делает заимствования из всевозможных дисциплин и медиумов - литературы, поэзии, театра, музыки, танца, архитектуры и живописи, а также видео, кино, фотографии и повествований, - используя их во всевозможных комбинациях. По сути, столь неограниченным набором принципов не обладает никакая другая форма художественного выражения, и каждый автор перформанса, в процессе его осуществления и с присущей ему манерой исполнения, формулирует его определение по-своему.
2 определение
Последующее издание высветило роль перформанса в разрушении барьеров между "высоким искусством" и популярной культурой. В нем было продемонстрировано и то, как присутствие живого художника и акцент на его теле стали основными в понятии "реального" и как под влиянием этого сформировались видео-арт, жанр инсталляции, а также художественная фотография конца ХХ века.
3 определение
В ХХI веке резко выросло число художников по всему миру, обращающихся к перформансу, - медиуму, который позволяет выражать "различия", присущие их собственной культуре или этнической принадлежности, и дает возможность присоединиться к более широкому дискурсу глобальной международной культуры.
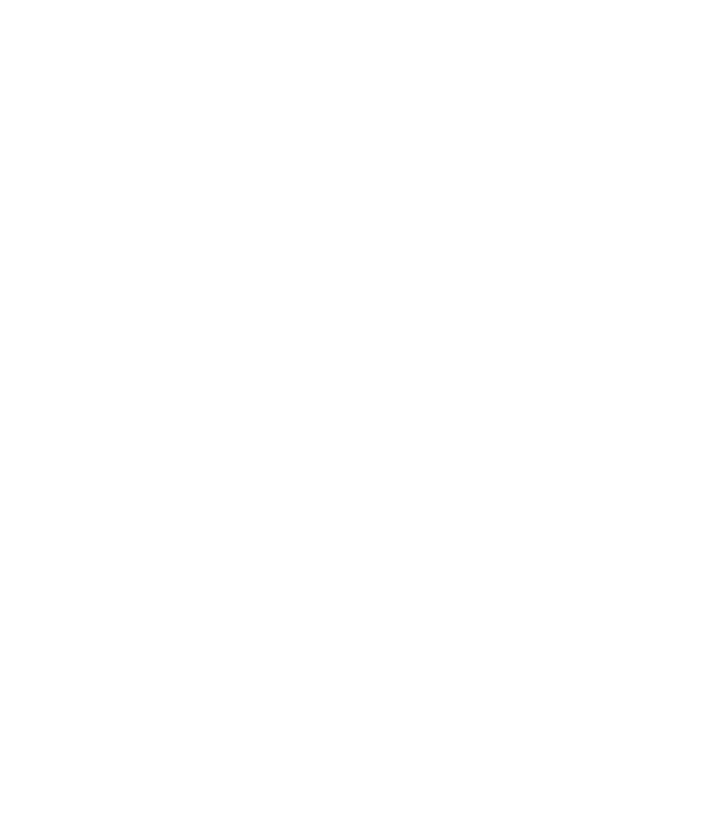
Разули Голдберг «Искусство перформанса»
Понятие перформативность Джонома Л.Остина
Понятие "перформативности" было разработано Джоном Л.Остином. Он ввел его в философию языка в рамках курса лекций "Как производить действия при помощи слов".
Это слово было образовано им от глагола to perform "(представлять, осуществлять, исполнять) оно указывает на то, что произнесение высказывания означает совершение действия"
Например, служащий ЗАГСа говорит: "Объявляю вас мужем и женой". Эти высказывания создают новое положение дел.
Это слово было образовано им от глагола to perform "(представлять, осуществлять, исполнять) оно указывает на то, что произнесение высказывания означает совершение действия"
Например, служащий ЗАГСа говорит: "Объявляю вас мужем и женой". Эти высказывания создают новое положение дел.
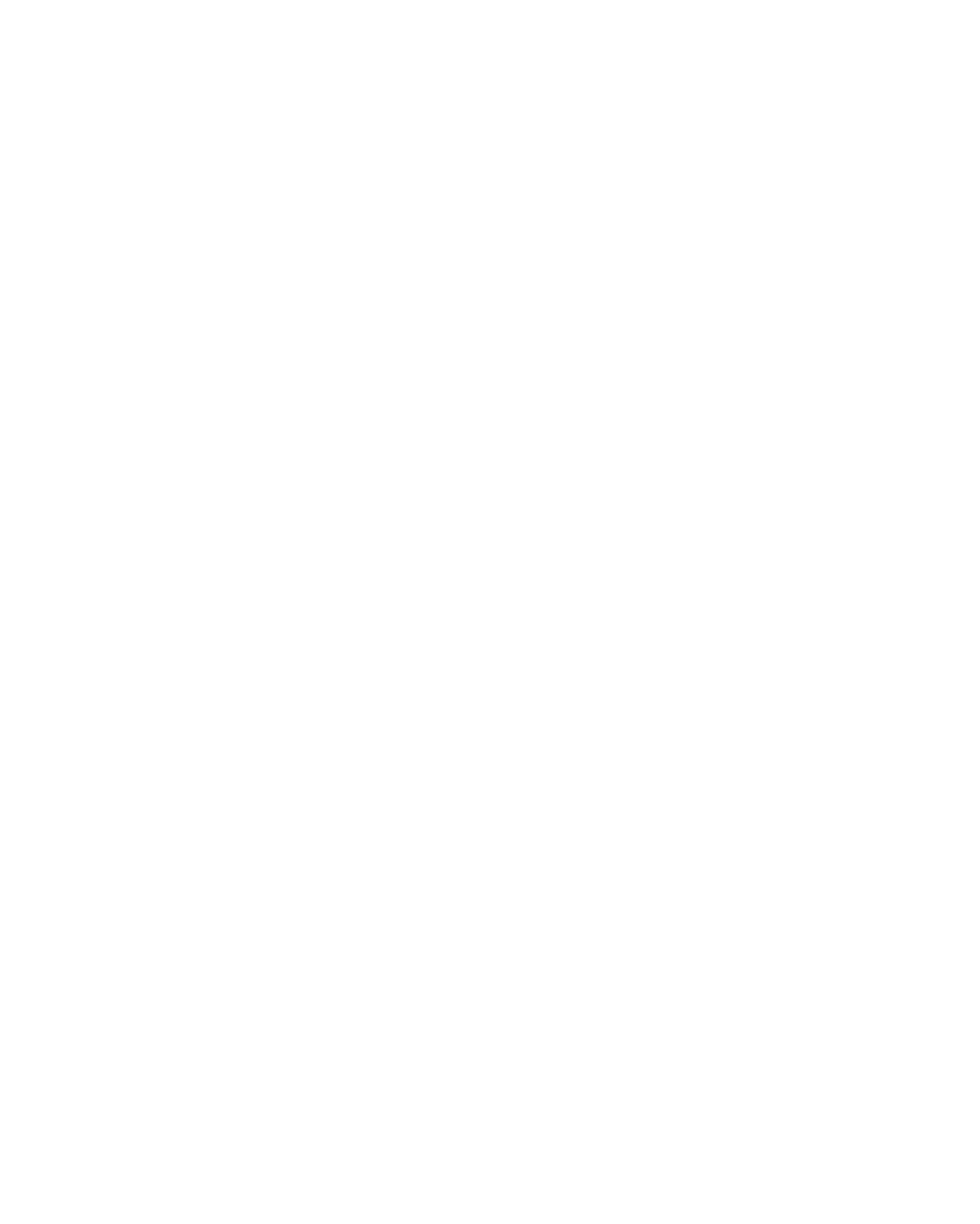
Эрика Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»
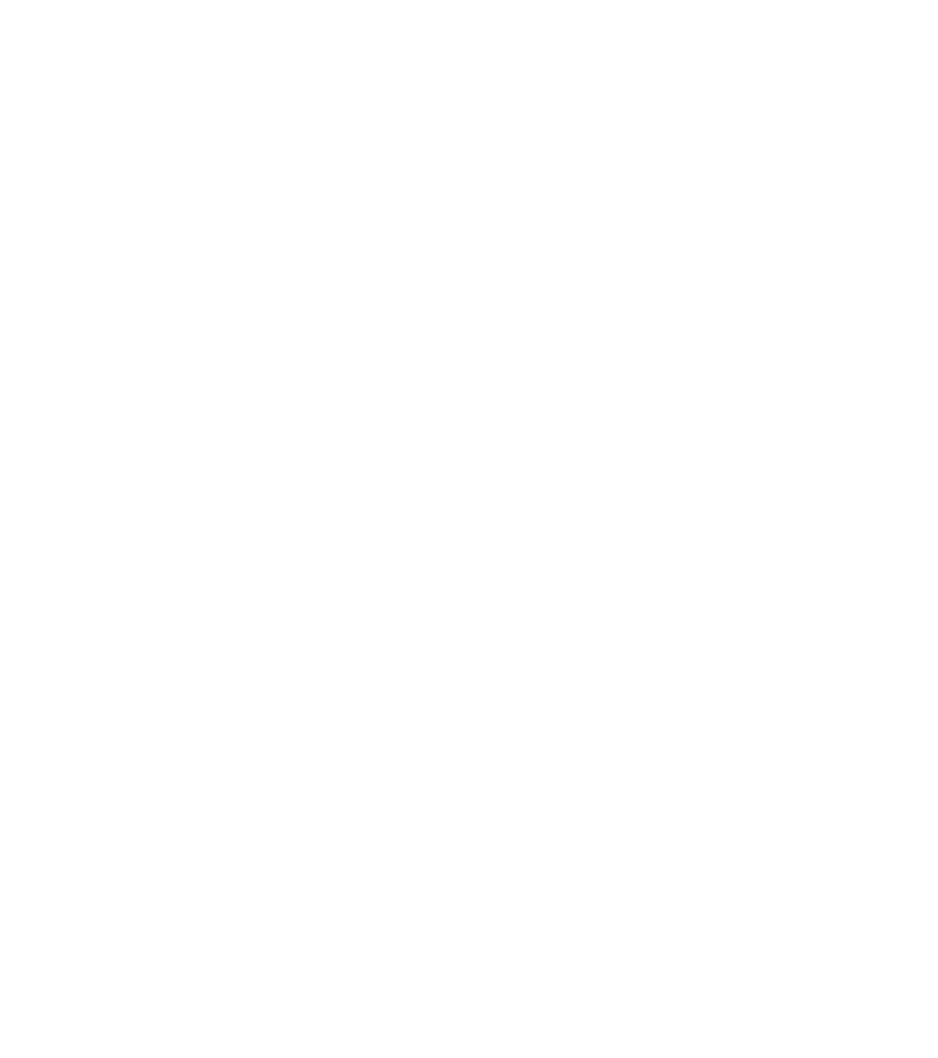
Мария Антонян «Рецепция перформанса»
"В перформансе тело является художественным message: оно выставляется напоказ. Тело это берет на себя функцию некой "длительности", "протяженности" самого времени, его чувственно-телесной стороны, фундаментальной и незыблемой парадигмы человеческого удела. Нередко перформансы и акции, связанные с телесными практиками сопровождаются публичными раздеваниями или переодеваниями, что служит как дистанцированию и выделению конкретного тела от общего, коллективного, так и его "преображению", трансформации: любое действие акциониста, работающего с телом, это всегда демонстративное использование поверхности этого тела, его кожного покрова, обладающего определенной чувствительностью, которая может о себе "сказать", стать "посланием". Какую бы задачу не ставил перед собой автор, будь то "разрушение последнего табу", или интеллектуальная провокация, само создание чувственного образа внешнего воздействия, -- все это пропускается художником через самого себя, собственный телесный опыт. Соучаствующий же зритель видит непосредственный процесс разрушения-созидания и ощущает его в границах собственной телесности, так как даже в современном виртуализированном мире, все еще хочется верить в то, что своими собственными телами мы все-таки пока еще обладаем.
Создание всевозможного каталога "следов", "записей" природного в культурном контексте, создание диалога между природно-телесным и культурно-сконструированным. Часто в телесных художественных практиках восстанавливается соответствующий нашей цивилизации и ее моделям образ реальности, растворенной в собственном отражении. Проблемы перформансов и акций, связанных с телесностью, это не только (иногда) трансгрессивный поиск свободы, но и создание особых пространств, совместно открываемых художником и зрителем, поиск "запасного выхода", "незанятой территории", особого "ресурса", полного возможностей для непрекращающегося диалога, разрабатывающего собственный язык, соответствующий задачам этого диалога. Дискурс по сей день существующий и развивающийся, работающий с творческим переосмыслением культурных матриц.
Создание всевозможного каталога "следов", "записей" природного в культурном контексте, создание диалога между природно-телесным и культурно-сконструированным. Часто в телесных художественных практиках восстанавливается соответствующий нашей цивилизации и ее моделям образ реальности, растворенной в собственном отражении. Проблемы перформансов и акций, связанных с телесностью, это не только (иногда) трансгрессивный поиск свободы, но и создание особых пространств, совместно открываемых художником и зрителем, поиск "запасного выхода", "незанятой территории", особого "ресурса", полного возможностей для непрекращающегося диалога, разрабатывающего собственный язык, соответствующий задачам этого диалога. Дискурс по сей день существующий и развивающийся, работающий с творческим переосмыслением культурных матриц.
Абалакова «Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра.»
http://www.owl.ru/avangard/mezhdusubyektomitelom.html?ysclid=mfm6husavk185539407
http://www.owl.ru/avangard/mezhdusubyektomitelom.html?ysclid=mfm6husavk185539407
Понятие перформативности становится популярным в таких областях как социология, философия, антропология, литературоведение и культурология. Автор труда "Performance theory" и один из основателей антропологической дисциплины performance studies (перформативные исследования) Р. Шехнер использует понятие перформанса для обзора широкого спектра поведенческих особенностей человека. В современном обществе каждый представитель своего социума является носителем перформативности, передающейся через модель поведения, одежду, еду и т.д. В данном случае, теория перформативности очевидно перекликается с некоторыми положениями теории «карнавальной культуры» М.Бахтина.
К понятию перформативности в своих работах обращались Ж.Деррида(об «успешном» перформативе, конексте, воздействии и контрасте перформатива (работа «Подпись-событие-контекст», 1972), Ю. Хабермас (о перформативности как коммуникативном способе самопрезентации) и др.
Некоторые ученые, использующие понятие перформанса и перформативности, в то же время отмечают проблему повсеместного употребления термина. "Если некоторые филологи свели все не интересующие их понятия под одно название "перформанс", то антропологи и фольклористы сделали немного, чтобы прояснить ситуацию. Мы, как правило,относим к понятию "перформанс" все, что нас интересует".
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые "перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры, очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
По выражению Элин Даймонд, перформансы — это события, в которых «культура сложным образом возвещает о себе».
К понятию перформативности в своих работах обращались Ж.Деррида(об «успешном» перформативе, конексте, воздействии и контрасте перформатива (работа «Подпись-событие-контекст», 1972), Ю. Хабермас (о перформативности как коммуникативном способе самопрезентации) и др.
Некоторые ученые, использующие понятие перформанса и перформативности, в то же время отмечают проблему повсеместного употребления термина. "Если некоторые филологи свели все не интересующие их понятия под одно название "перформанс", то антропологи и фольклористы сделали немного, чтобы прояснить ситуацию. Мы, как правило,относим к понятию "перформанс" все, что нас интересует".
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые "перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры, очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
По выражению Элин Даймонд, перформансы — это события, в которых «культура сложным образом возвещает о себе».
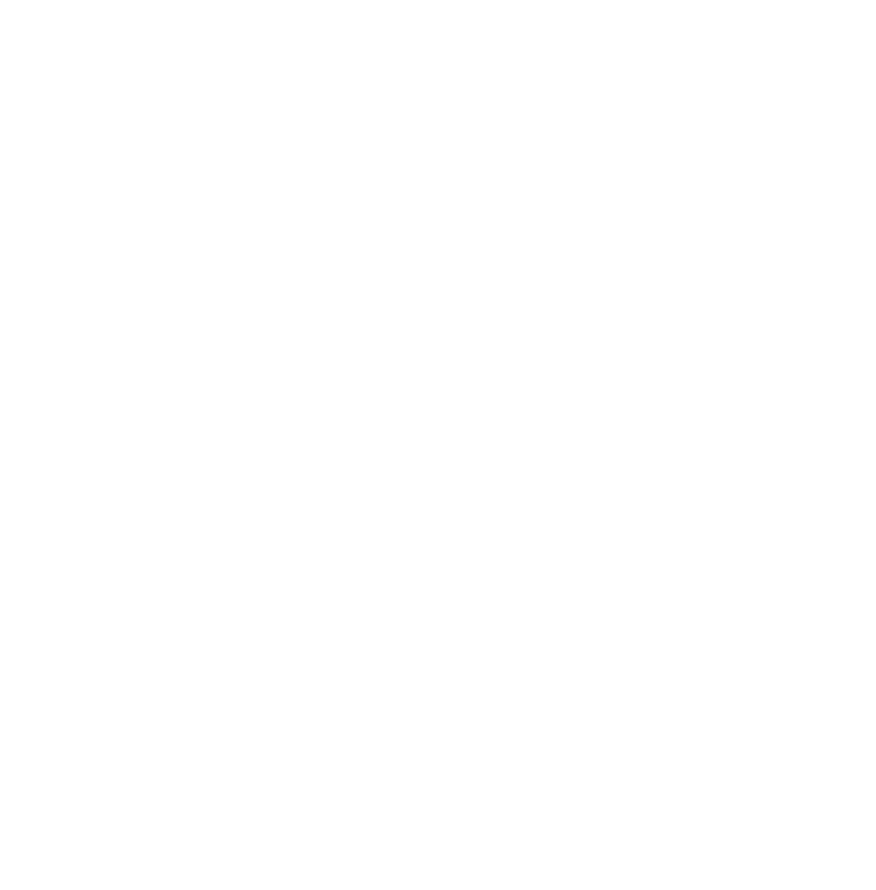
Ричард Шехнер «Теория перформанса»
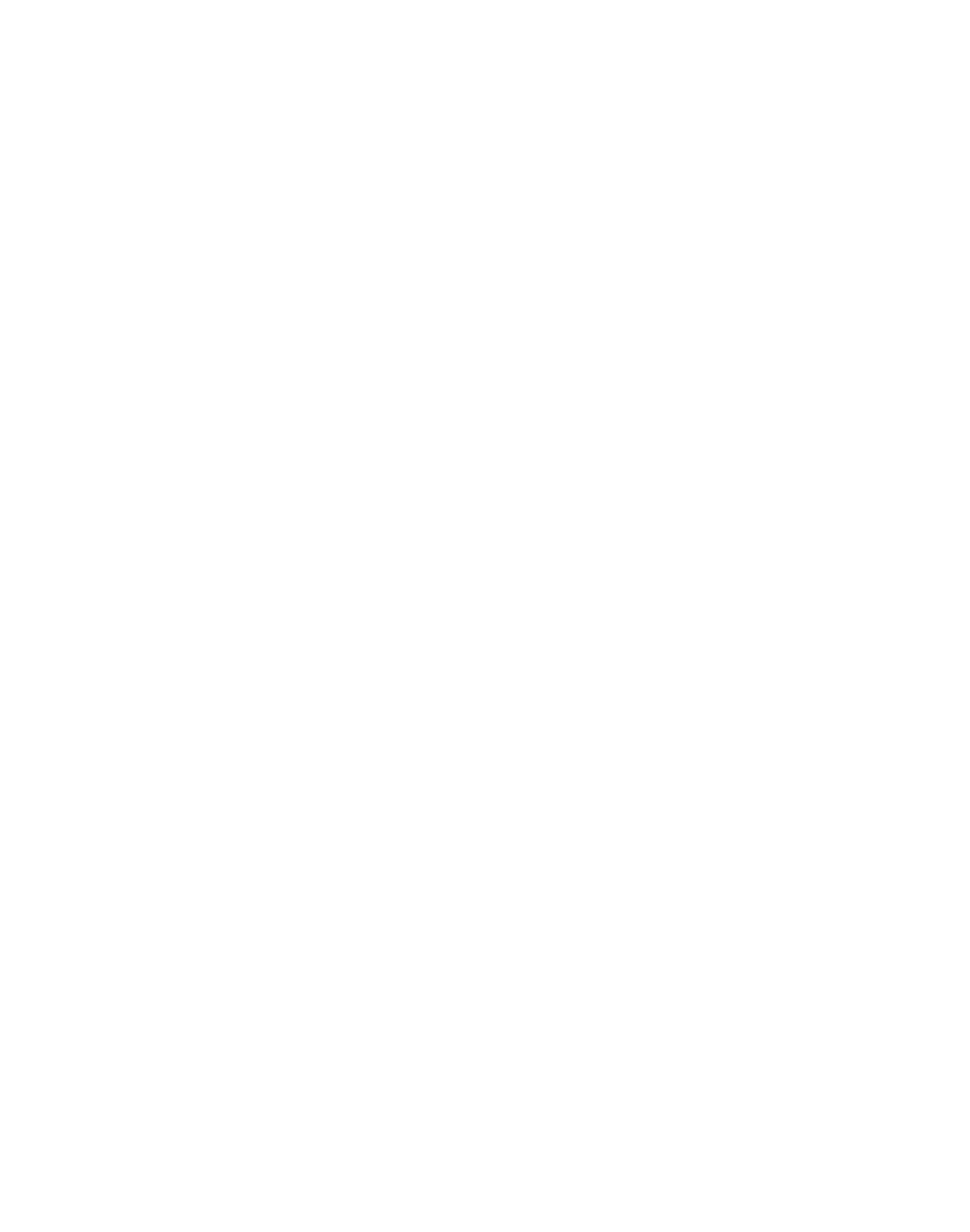
Catherine Wood «Performance in contemporary art»
Партиципаторный перформанс
Партиципаторное искусство, по Бишоп, определяется участием людей, которые остаются его «ключевым художественным медиумом и материалом». Томас Хиршхорн и его рабочие бригады, Вик Мунис, открывший школу для бразильских детей, кулинарные сеансы Риркрита Тиравания — на страницах книги промелькнет множество арт-звезд. Некоторые покажутся знакомыми по работам Николя Буррио, в начале 1990-х описавшего «реляционную эстетику» как практику «отношений» непосредственно в пространстве экспозиции. Его тексты зафиксировали рождение «эстетики взаимодействия» и ввели ее в профессиональный оборот, но относились к узкому кругу художников и периоду его карьерного взлета, оставаясь по сути его манифестами как куратора.
Отмечая ограниченность Буррио, сама Бишоп идет дальше, предпринимая попытку историко-теоретической контекстуализации партиципаторного искусства со времен авангарда (название книги позаимствовано у Андре Бретона) до начала 2000-х. Этот исторический обзор начинается с футуристических вечеров и парижского «сезона дада», переходит к советскому авангарду, переносится в охваченный демонстрациями Париж 1968-го и Лондон, где развивалось движение комьюнити-арта. Большие главы посвящены Латинской Америке эпохи диктатур (с этим связана «жестокость» местного «искусства участия») и странам бывшего соцблока, где партиципаторность проявлялась на фоне коллективизма как государственной нормы. Известные практики вроде дрейфа ситуационистов Бишоп сравнивает с современными им немейнстримными практиками, привлекая целые пласты любопытнейшего материала, который в силу его специфики оставался незадокументированным и исследователю пришлось восстанавливать его по частям.
Завершающие главы об «образовательном повороте» (слияние образовательных и художественных практик) и «делегированном перформансе» (исполнение акции приглашенными участниками) дают срез не только современного перформанса, но и ситуации в искусстве последних десятилетий, вращавшегося вокруг идеи зрительского участия. Этот материал пропущен Бишоп через личный опыт зрительницы и участницы описанных проектов.
При анализе подобных работ автор призывает не отказываться от эстетики, но не в смысле суждения о прекрасном, а в понимании Жака Рансьера, видевшего в ней «особый тип восприятия, включающий… языковую и теоретическую сферу, в которой происходит размышление об искусстве». И о том, «насколько детальный или свободный сценарий» навязан участникам партиципаторного проекта и какую «свободу голоса» получают отдельные его элементы, позволяющие «поставить под сомнение традиционные художественные критерии… придать видимость определенным социальным группам… привнести в работы эстетические эффекты случая и риска». Здесь эстетика пересекается с политикой в области «разделения чувственного», которое, по Бишоп, остается ключевым элементом самых успешных партиципаторных работ.
Отмечая ограниченность Буррио, сама Бишоп идет дальше, предпринимая попытку историко-теоретической контекстуализации партиципаторного искусства со времен авангарда (название книги позаимствовано у Андре Бретона) до начала 2000-х. Этот исторический обзор начинается с футуристических вечеров и парижского «сезона дада», переходит к советскому авангарду, переносится в охваченный демонстрациями Париж 1968-го и Лондон, где развивалось движение комьюнити-арта. Большие главы посвящены Латинской Америке эпохи диктатур (с этим связана «жестокость» местного «искусства участия») и странам бывшего соцблока, где партиципаторность проявлялась на фоне коллективизма как государственной нормы. Известные практики вроде дрейфа ситуационистов Бишоп сравнивает с современными им немейнстримными практиками, привлекая целые пласты любопытнейшего материала, который в силу его специфики оставался незадокументированным и исследователю пришлось восстанавливать его по частям.
Завершающие главы об «образовательном повороте» (слияние образовательных и художественных практик) и «делегированном перформансе» (исполнение акции приглашенными участниками) дают срез не только современного перформанса, но и ситуации в искусстве последних десятилетий, вращавшегося вокруг идеи зрительского участия. Этот материал пропущен Бишоп через личный опыт зрительницы и участницы описанных проектов.
При анализе подобных работ автор призывает не отказываться от эстетики, но не в смысле суждения о прекрасном, а в понимании Жака Рансьера, видевшего в ней «особый тип восприятия, включающий… языковую и теоретическую сферу, в которой происходит размышление об искусстве». И о том, «насколько детальный или свободный сценарий» навязан участникам партиципаторного проекта и какую «свободу голоса» получают отдельные его элементы, позволяющие «поставить под сомнение традиционные художественные критерии… придать видимость определенным социальным группам… привнести в работы эстетические эффекты случая и риска». Здесь эстетика пересекается с политикой в области «разделения чувственного», которое, по Бишоп, остается ключевым элементом самых успешных партиципаторных работ.
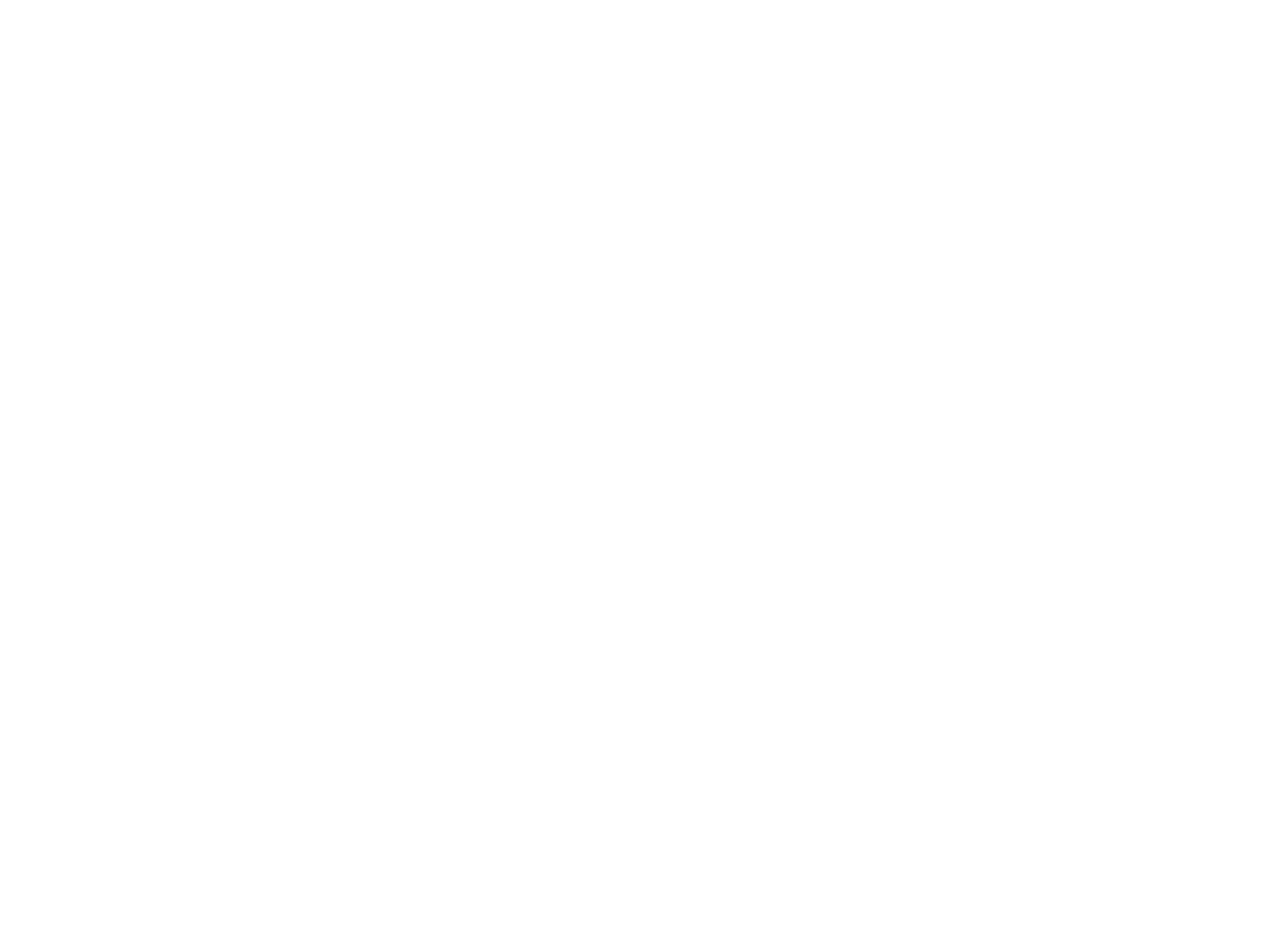
Николя Буррио «Реляционная эстетика»
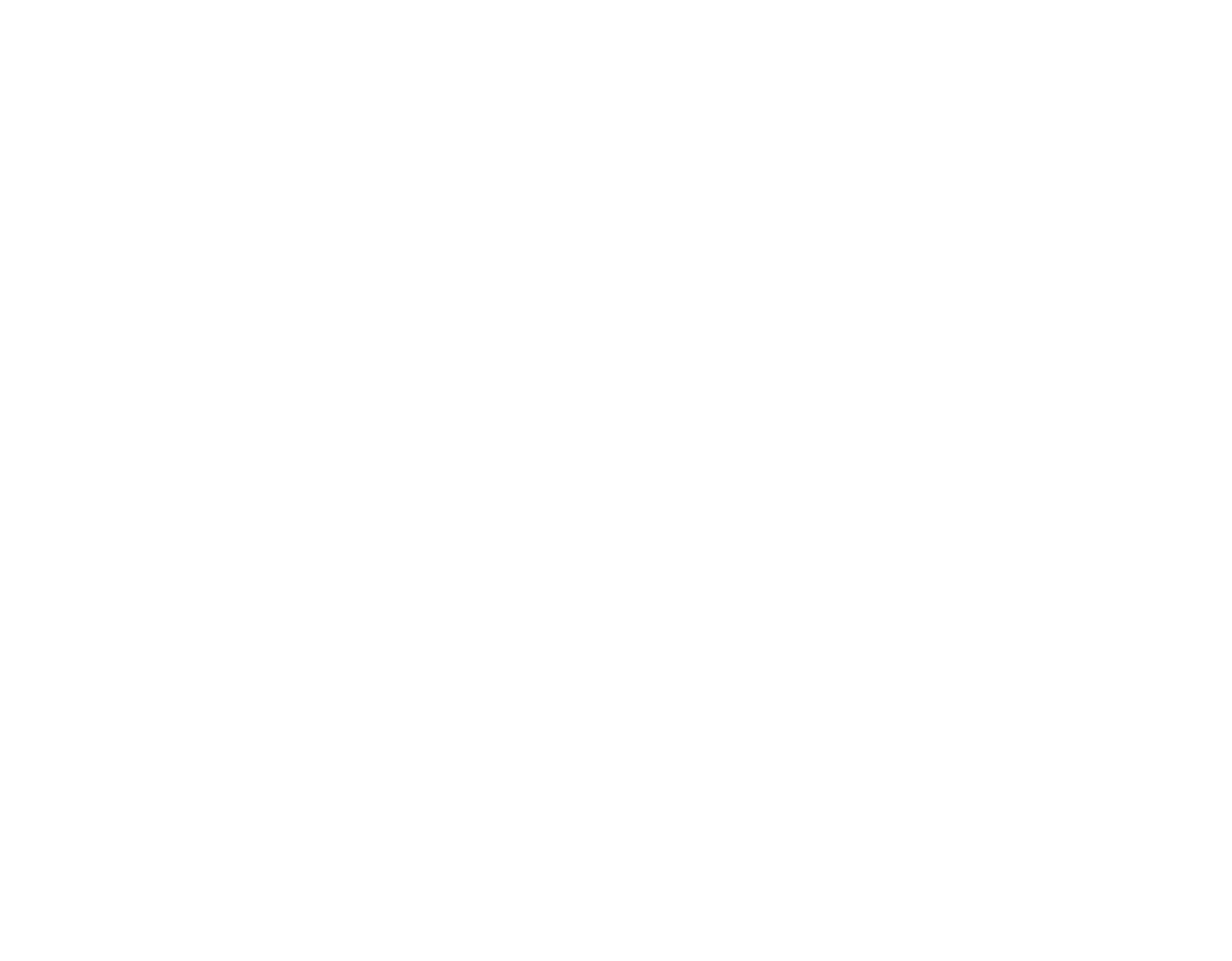
Клэр Бишоп «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства»
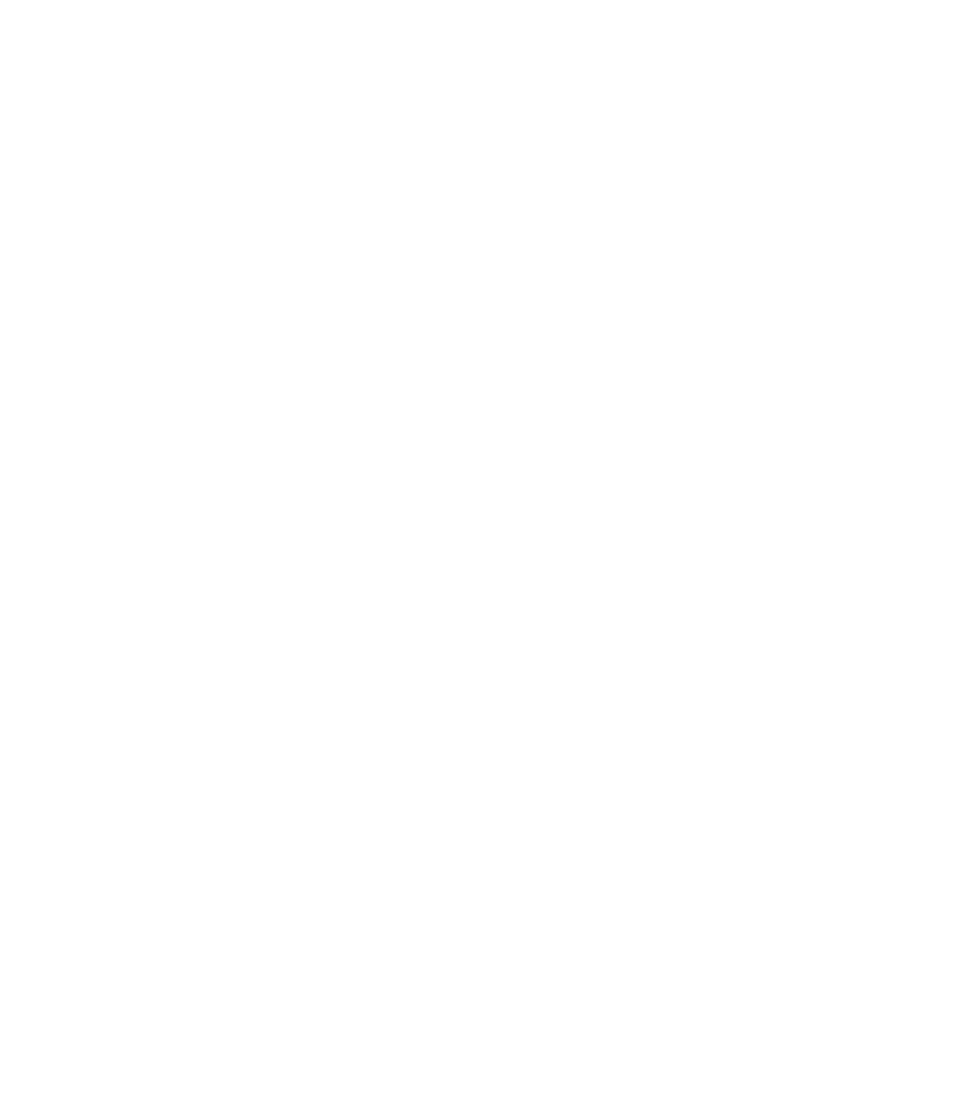
Нины Саймон. «Партиципаторный музей»
Соучастие или ничто
https://artguide.com/posts/1302?ysclid=mfm78oylze677459255
Делегированный перформанс
https://moscowartmagazine.com/issue/15/article/210
https://artguide.com/posts/1302?ysclid=mfm78oylze677459255
Делегированный перформанс
https://moscowartmagazine.com/issue/15/article/210
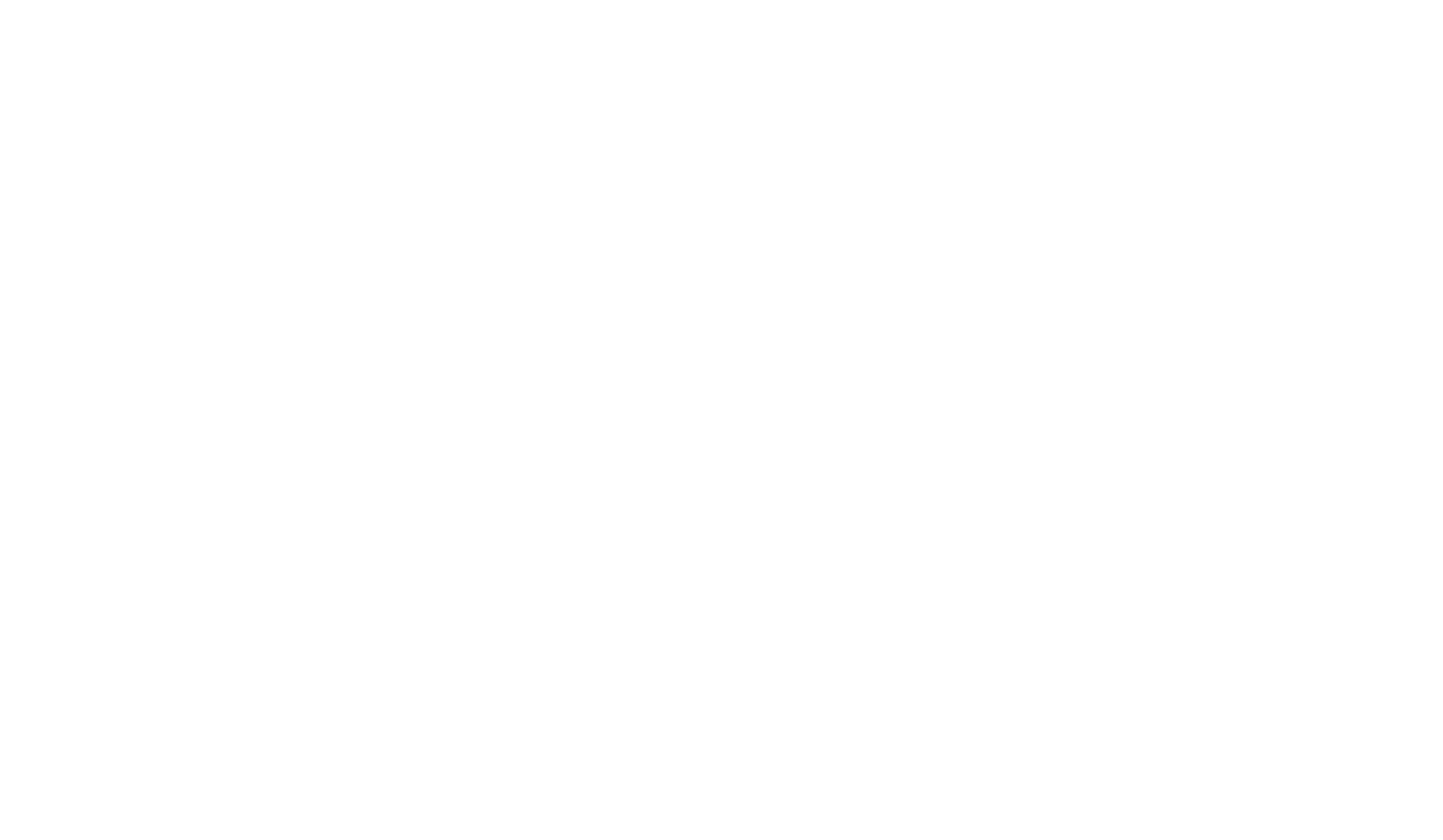
Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня»
Клэр Бишоп. Информационное перенасыщение: исследовательское искусство
https://artguide.com/posts/2903?ysclid=mfm7ljo2f0878964639
https://artguide.com/posts/2903?ysclid=mfm7ljo2f0878964639
Мария Тендрякова ритуал и перформанс (не очень хорошее качество звука, но интересный материал)
https://www.youtube.com/watch?v=n_18zZ-1ih4
https://www.youtube.com/watch?v=n_18zZ-1ih4
Коллективная практика бездействия
Бездействие мы рассматриваем как феномен, предпосылку к действию. Наш интерес - сделать эту практику коллективной, чтобы расширить опыт: как в нашем вариативе действия мы может найти вариатив бездействия. Как правило, мы существуем в довольном узком диапазоне интерпретаций и эмоциональных переживаний, и эта художественная практика, в какой-то степени, расширяет этот диапазон. Сегодня мы особенно нуждаемся в идее для объединения. Бездействие как безмолвная практика невербальной коммуникации претендует на объединение разных людей и способно быть пространством, которое принимает разность в нас и нас разными. Тогда как слово может подчеркивать разделенность.
Сама практика основана на принципах коллективного соучастия. Пребывание с людьми, разделяющими похожие ценности, целительно само по себе, оно снимает груз вины, которую обычно испытываешь за то, что чего-то не сделал, не выполнил, не достиг того, что мог бы достичь. Это возможность, при помощи других, за счёт объединения, остаться наедине с собой, приблизиться к себе реальному, восстановить жизненные силы. Такая практика, в очередной раз, показывает, насколько неразделены физическое и психологическое.
Бездействие - это безмолвное согласие остановить на время череду привычных мыслей, выключиться из рутины событий, освободиться от обязательств и социальных ожиданий, не стремиться все успеть и всех перегнать. Сейчас, когда мир заполнен идеей тотального присутствия, Практика бездействия - размышление, как организовать для себя зону отсутствия. В этот момент мы проявляем свою волю и приближаемся к себе реальному. На деле такая практика может оказаться еще и эффективным психологическим средством для разгрузки и восстановления.
В этом процессе мы присваиваем себе утраченную возможность ничего не делать, быть в этом пространстве между действием и бездействием как возможности аккумулировать свою энергию, отстоять своё право ничего не делать, как одну из тактик сопротивления.
По сути, бездействие становится местом, в котором происходит то, что не называется, как опыт с неартикулируемым остатком, в каком-то смысле, это экологичная практика, поскольку мы ничего не производим в этот момент, даже занимаемся сортировкой и утилизацией мыслительного и эмоционального мусора.
Через практику мы предлагаем наблюдать, как в теле живет бездействие, какие действия выбирает наше тело, чтобы бездействовать. Практика как пространство личного и коллективного опыта перформативной интервенции в поле бездействия. Какими мы пребываем, входим на эту территорию, и какими мы её покидаем.
Вопросы, которые мы предлагаем исследовать в ходе перформативной социальной практики бездействия:
ЧТО ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ? КОГДА ВОЗНИКАЕТ ИМПУЛЬС К ДЕЙСТВИЮ? КАК МЫ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕЛЯЕМ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЕМ И БЕЗДЕЙСТВИЕМ? ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ? ЧТО ВЫХВАТЫВАЕТ НАШЕ ВНИМАНИЕ? КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫБИРАЕТ НАШЕ ТЕЛО, ЧТОБЫ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Сама практика основана на принципах коллективного соучастия. Пребывание с людьми, разделяющими похожие ценности, целительно само по себе, оно снимает груз вины, которую обычно испытываешь за то, что чего-то не сделал, не выполнил, не достиг того, что мог бы достичь. Это возможность, при помощи других, за счёт объединения, остаться наедине с собой, приблизиться к себе реальному, восстановить жизненные силы. Такая практика, в очередной раз, показывает, насколько неразделены физическое и психологическое.
Бездействие - это безмолвное согласие остановить на время череду привычных мыслей, выключиться из рутины событий, освободиться от обязательств и социальных ожиданий, не стремиться все успеть и всех перегнать. Сейчас, когда мир заполнен идеей тотального присутствия, Практика бездействия - размышление, как организовать для себя зону отсутствия. В этот момент мы проявляем свою волю и приближаемся к себе реальному. На деле такая практика может оказаться еще и эффективным психологическим средством для разгрузки и восстановления.
В этом процессе мы присваиваем себе утраченную возможность ничего не делать, быть в этом пространстве между действием и бездействием как возможности аккумулировать свою энергию, отстоять своё право ничего не делать, как одну из тактик сопротивления.
По сути, бездействие становится местом, в котором происходит то, что не называется, как опыт с неартикулируемым остатком, в каком-то смысле, это экологичная практика, поскольку мы ничего не производим в этот момент, даже занимаемся сортировкой и утилизацией мыслительного и эмоционального мусора.
Через практику мы предлагаем наблюдать, как в теле живет бездействие, какие действия выбирает наше тело, чтобы бездействовать. Практика как пространство личного и коллективного опыта перформативной интервенции в поле бездействия. Какими мы пребываем, входим на эту территорию, и какими мы её покидаем.
Вопросы, которые мы предлагаем исследовать в ходе перформативной социальной практики бездействия:
ЧТО ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ? КОГДА ВОЗНИКАЕТ ИМПУЛЬС К ДЕЙСТВИЮ? КАК МЫ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕЛЯЕМ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЕМ И БЕЗДЕЙСТВИЕМ? ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ? ЧТО ВЫХВАТЫВАЕТ НАШЕ ВНИМАНИЕ? КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫБИРАЕТ НАШЕ ТЕЛО, ЧТОБЫ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ?
Дж. Агамбен "О том, что мы можем не делать"
Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из-за отсутствия материальных условий для их реализации, либо из-за какого-либо запрета, который делает их применение категорически невозможным. В обоих случаях власть — и в этом проявляется её высший деспотизм и жестокость — отделяет людей от их способностей и тем самым обуславливает их бессилие. Но существует и другое, более коварное действие власти, распространяющееся не непосредственно на то, что люди могут делать — на их силы, а на их бессилие, то есть на то, чего они не могут делать или, скорее, на то, чего они могут не делать.
Сила в основе своей есть то же бессилие, каждая способность делать что-либо по определению подразумевает способность не делать чего-либо, и это ключевое достижение теории способности, которуюАристотель развивает в IX книге"Метафизики". "Неспособность [adynamia],— пишет он, — лишённость, противоположная такого рода способности [dynamis],так что способностьвсегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность"(Met. 1046a, 29-31). «Неспособность»означает здесь не только отсутствие способности, невозможность делать что-либо, но также и прежде всего "возможность не делать чего-либо", возможность не задействовать собственную способность. Именно эта двойственность, характерная для любой способности, именно постоянно присутствующая способность быть и не быть, делать и не делать и определяет человеческую способность вообще. Таким образом, человеку, этому живому существу, наделенному способностями, доступно и одно, и другое, противоположное первому, ибо он может как действовать, так и не действовать. Поэтому он больше кого бы то ни было рискует ошибиться, но в то же время это положение позволяет ему свободно накапливать и подчинить себе собственный потенциал, превращая его в "умение". Ибо не только объём того, что кто-либо может делать, но также – и в первую очередь – потенциальная способность поддерживать связь с самой возможностью этого не делать определяет важность его действий. В то время как огонь может лишь гореть, а другие живые существа могут действовать лишь в меру свойственной им способности, иными словами, они могут вести себя только так или иначе, в соответствии с их биологическим предназначением, то человек - это животное, которое способно на собственную неспособность.
Как раз на эту, менее очевидную, сторону способности и опирается сегодня власть, не без иронии именующая себя "демократической". Она отделяет людей не только и не столько от того, что они могут делать, сколько от того, чего они могут не делать. Cегодняшнего человека отделили от собственной неспособности, лишили представления о том, чего он может н делать, и в итоге он верит в своё всемогущество и повторяет радостное "Проще простого!" или безответственное "Будет сделано!", когда на самом деле он должен понять, что он каким-то непостижимым образом оказался во власти сил и процессов, контролировать которые он совершенно не в состоянии. Он слеп не к своим способностям, а к своим неспособностям, не к тому, что он может делать, а к тому, чего он не может делать или же чего он может не делать.
Отсюда и вся путаница нашего времени, неумение отделять ремесло от призвания, профессиональную принадлежность — от социальных ролей, каждую из которых играют статисты, чья наглость обратно пропорциональна непостоянству и неуверенности в качестве исполнения. Мысль о том, что каждый может делать что угодно или быть кем угодно, или же предположение, что не только осматривающий меня врач завтра может стать видеохудожником, но и убивающий меня палач уже действительно стал как в «Процессе» Кафки — певцом, лишь отражает понимание того, что все просто-напросто прогибаются, пытаясь соответствовать тому уровню гибкости, которого на сегодняшний день больше всего требует от каждого из нас рынок.
Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы, так как это отчуждение неспособности. Человек, отделенный от того, что он может делать, способен еще сопротивляться, он еще может не делать чего-либо. Но тот, кого оторвали от собственной неспособности, прежде всего лишается возможности противостоять. Лишь острое осознание того, чем мы не можем быть, гарантирует нам истинное понимание того, чем мы являемся, — точно так же ясное представление о том, чего мы не можем делать или чего мы можем не делать, наполняет наши действия реальным содержанием.
Некогда Жиль Делёз определил действие власти как отделение людей от того, что они могут, а именно — от их способностей. Действующие силы сталкиваются с препятствием либо из-за отсутствия материальных условий для их реализации, либо из-за какого-либо запрета, который делает их применение категорически невозможным. В обоих случаях власть — и в этом проявляется её высший деспотизм и жестокость — отделяет людей от их способностей и тем самым обуславливает их бессилие. Но существует и другое, более коварное действие власти, распространяющееся не непосредственно на то, что люди могут делать — на их силы, а на их бессилие, то есть на то, чего они не могут делать или, скорее, на то, чего они могут не делать.
Сила в основе своей есть то же бессилие, каждая способность делать что-либо по определению подразумевает способность не делать чего-либо, и это ключевое достижение теории способности, которуюАристотель развивает в IX книге"Метафизики". "Неспособность [adynamia],— пишет он, — лишённость, противоположная такого рода способности [dynamis],так что способностьвсегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность"(Met. 1046a, 29-31). «Неспособность»означает здесь не только отсутствие способности, невозможность делать что-либо, но также и прежде всего "возможность не делать чего-либо", возможность не задействовать собственную способность. Именно эта двойственность, характерная для любой способности, именно постоянно присутствующая способность быть и не быть, делать и не делать и определяет человеческую способность вообще. Таким образом, человеку, этому живому существу, наделенному способностями, доступно и одно, и другое, противоположное первому, ибо он может как действовать, так и не действовать. Поэтому он больше кого бы то ни было рискует ошибиться, но в то же время это положение позволяет ему свободно накапливать и подчинить себе собственный потенциал, превращая его в "умение". Ибо не только объём того, что кто-либо может делать, но также – и в первую очередь – потенциальная способность поддерживать связь с самой возможностью этого не делать определяет важность его действий. В то время как огонь может лишь гореть, а другие живые существа могут действовать лишь в меру свойственной им способности, иными словами, они могут вести себя только так или иначе, в соответствии с их биологическим предназначением, то человек - это животное, которое способно на собственную неспособность.
Как раз на эту, менее очевидную, сторону способности и опирается сегодня власть, не без иронии именующая себя "демократической". Она отделяет людей не только и не столько от того, что они могут делать, сколько от того, чего они могут не делать. Cегодняшнего человека отделили от собственной неспособности, лишили представления о том, чего он может н делать, и в итоге он верит в своё всемогущество и повторяет радостное "Проще простого!" или безответственное "Будет сделано!", когда на самом деле он должен понять, что он каким-то непостижимым образом оказался во власти сил и процессов, контролировать которые он совершенно не в состоянии. Он слеп не к своим способностям, а к своим неспособностям, не к тому, что он может делать, а к тому, чего он не может делать или же чего он может не делать.
Отсюда и вся путаница нашего времени, неумение отделять ремесло от призвания, профессиональную принадлежность — от социальных ролей, каждую из которых играют статисты, чья наглость обратно пропорциональна непостоянству и неуверенности в качестве исполнения. Мысль о том, что каждый может делать что угодно или быть кем угодно, или же предположение, что не только осматривающий меня врач завтра может стать видеохудожником, но и убивающий меня палач уже действительно стал как в «Процессе» Кафки — певцом, лишь отражает понимание того, что все просто-напросто прогибаются, пытаясь соответствовать тому уровню гибкости, которого на сегодняшний день больше всего требует от каждого из нас рынок.
Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы, так как это отчуждение неспособности. Человек, отделенный от того, что он может делать, способен еще сопротивляться, он еще может не делать чего-либо. Но тот, кого оторвали от собственной неспособности, прежде всего лишается возможности противостоять. Лишь острое осознание того, чем мы не можем быть, гарантирует нам истинное понимание того, чем мы являемся, — точно так же ясное представление о том, чего мы не можем делать или чего мы можем не делать, наполняет наши действия реальным содержанием.
Фестиваль Присутствие
фестиваль современной фотографии
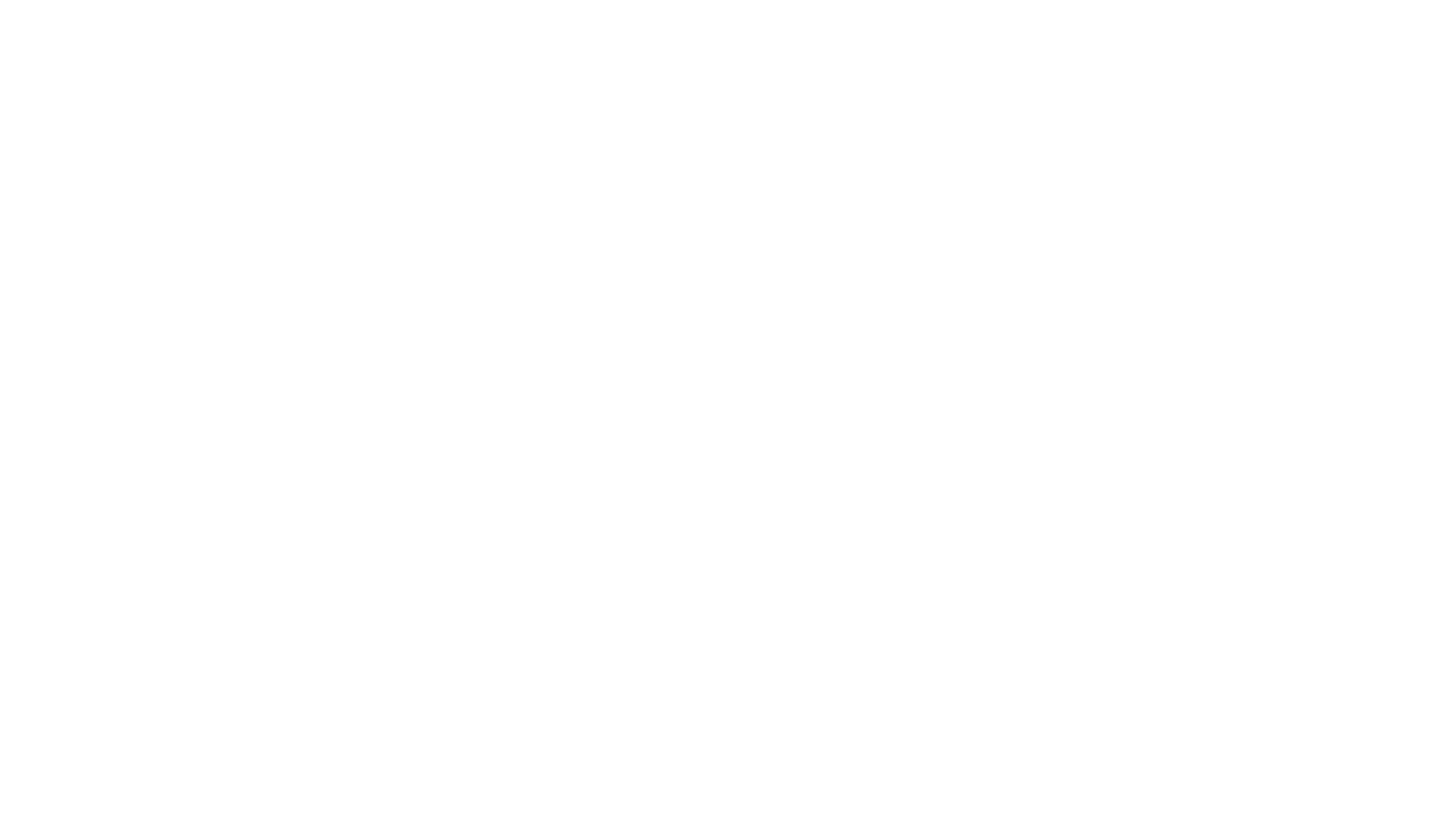
Коллективная практика бездействия, Фестиваль современной фотографии PRESENCE, 2019
Artlab (Yakutsk)
партиципаторные практики в Якутске
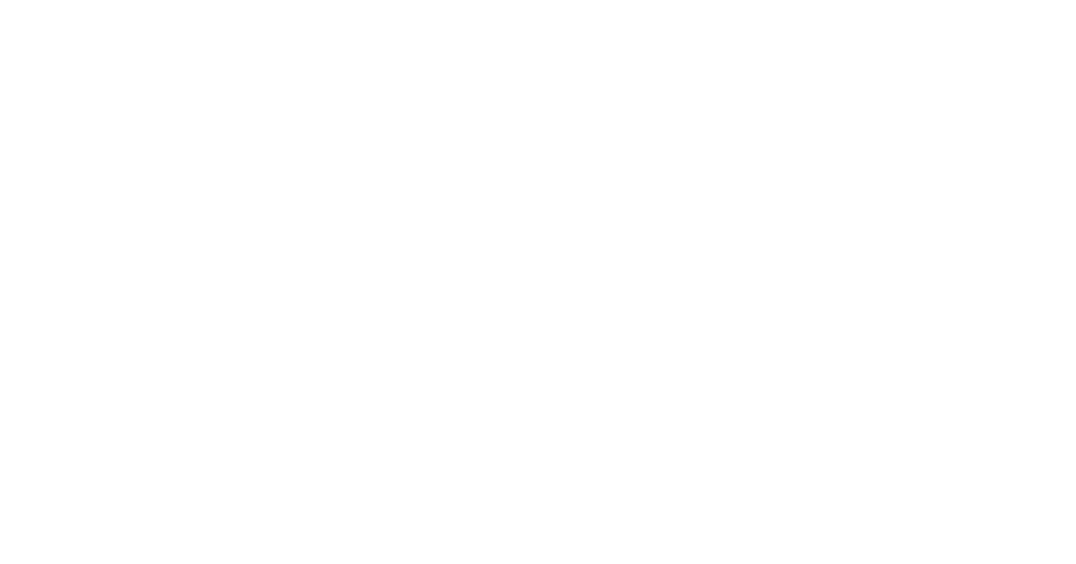
Коллективная практика бездействия, Artlab (Yakutsk), 2019



Карантинные онлайн практики
частная инициатива
Практику бездействия в онлайн формате мы начали проводить во время изоляции, когда уже чувствовалась усталость от вынужденной адаптации к новым обстоятельствам, от множества событий, информации и постоянной неопределенности, повышенного тревожного фона. Мы встречались каждую неделю на протяжении трех месяцев. Регулярная практика позволяла нам хотя бы раз в неделю на один час отключаться от всех дел, создать особое пространство тишины и бездействия. После изоляции мы продолжили наслаивать коллективный опыт уже в офлайн формате.
Бездействие мы рассматриваем как феномен, предпосылку к действию. Наш интерес был сделать эту практику коллективной, чтобы расширить опыт: как в нашем вариативе действия, мы можем найти вариатив своего бездействия.
Бездействие, в этом смысле, можно формулировать через отказ от привычного хода вещей и событий. Мы проявляем свою волю в этот момент и приближаемся к себе реальному, к своим реальным потребностям. Через практику бездействия мы наблюдали, как в теле живет бездействие, какие действия выбирает наше тело, чтобы бездействовать.
Бездействие мы рассматриваем как феномен, предпосылку к действию. Наш интерес был сделать эту практику коллективной, чтобы расширить опыт: как в нашем вариативе действия, мы можем найти вариатив своего бездействия.
Бездействие, в этом смысле, можно формулировать через отказ от привычного хода вещей и событий. Мы проявляем свою волю в этот момент и приближаемся к себе реальному, к своим реальным потребностям. Через практику бездействия мы наблюдали, как в теле живет бездействие, какие действия выбирает наше тело, чтобы бездействовать.
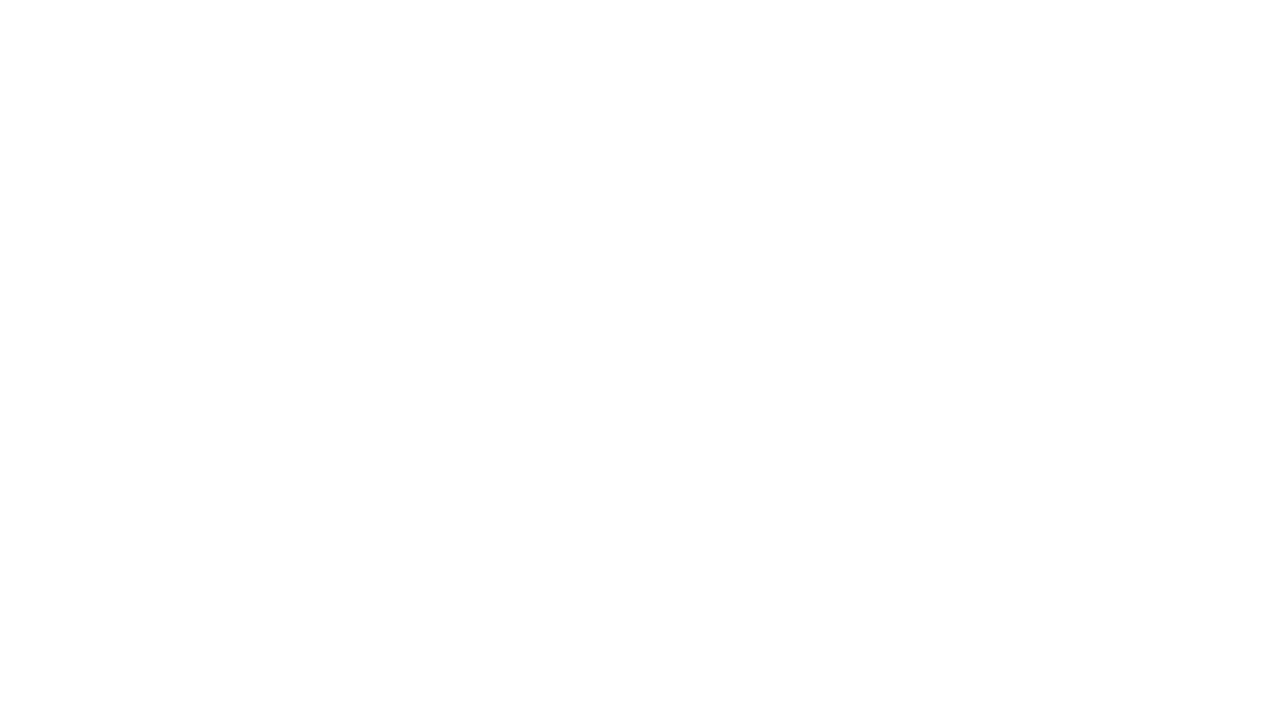
Скриншот видеодокументации Коллективной практики бездействия, 2020
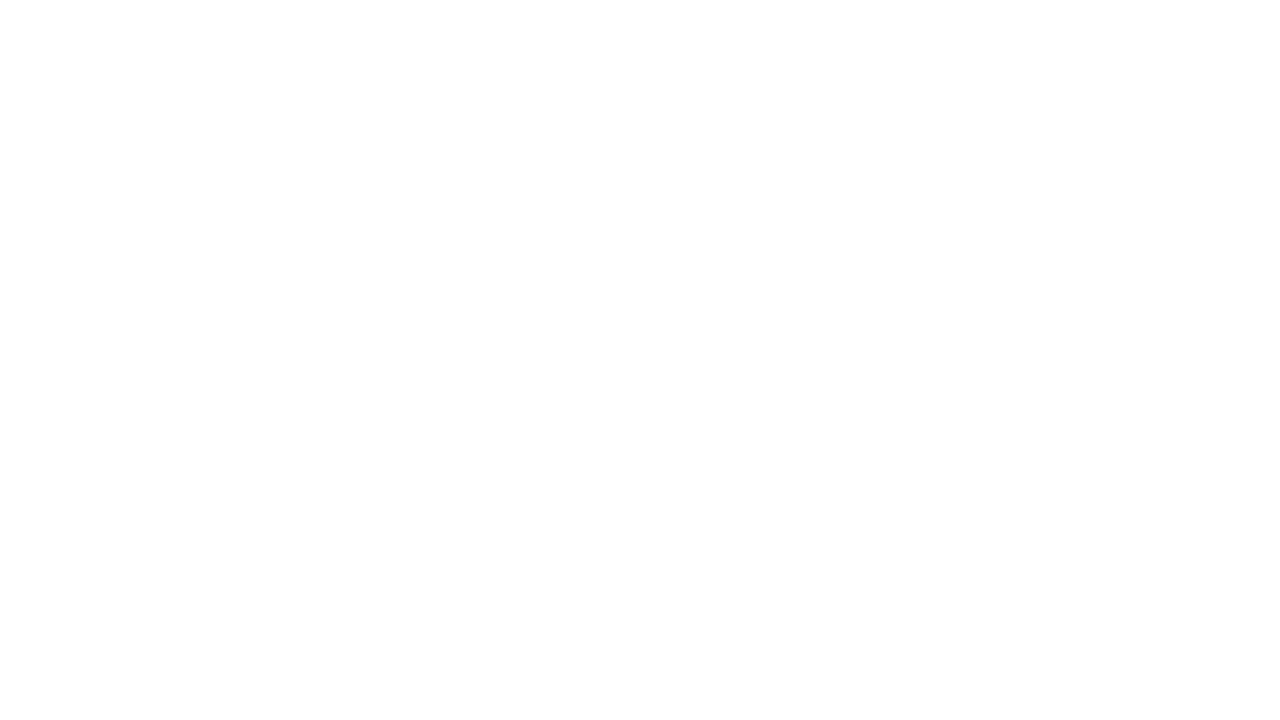
Скриншот видеодокументации Коллективной практики бездействия, 2020

Скриншот видеодокументации Коллективной практики бездействия, 2020
Публикация о практике:
"Нечто подобное я пережила, включившись в онлайн-практику, организованную в апреле — июне 2020 года художницей Ириной Иванниковой и танцедвигательным терапевтом Александрой Налетовой. Практика, называемая бездействием, с виду очень проста: ее участники выходят на связь в Zoom и, договорившись ничего не делать, проводят час вместе. Видеокамеру и микрофон можно не включать, сидеть у компьютера или с гаджетом в руках не обязательно.
Достаточно просто знать, что другие люди в тот же момент занимаются тем же самым — бездействуют вместе с тобой. То, что может показаться нонсенсом или ленью, на деле оказывается эффективным психологическим средством. Бездействие — согласие остановить на время череду привычных мыслей, выключиться из рутины событий, освободиться от обязательств и социальных ожиданий, не стремиться все успеть и всех перегнать. Бездействие — не терапия, оно далеко от направленного воздействия или какого бы то ни было обучения. Пребывание с людьми, разделяющими твои понятия и ценности, целительно само по себе, будь оно оф- или онлайн. Оно снимает груз вины, которую обычно испытываешь за то, что чего-то не сделал, не выполнил, не достиг того, чего мог бы достичь. Это возможность, при помощи других, остаться наедине с собой, приоткрыть свое истинное Я и тем самым восстановить жизненные силы. Такая практика еще раз показывает, насколько нераздельны физическое и психологическое, соприсутствие тел и соприсутствие душ — как офлайн, так и онлайн."
Ирина Сироткина
"Теория моды", выпуск 59, 2021
Ссылка на публикацию:
https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/tm_59_1_2021/article/23376/
"Нечто подобное я пережила, включившись в онлайн-практику, организованную в апреле — июне 2020 года художницей Ириной Иванниковой и танцедвигательным терапевтом Александрой Налетовой. Практика, называемая бездействием, с виду очень проста: ее участники выходят на связь в Zoom и, договорившись ничего не делать, проводят час вместе. Видеокамеру и микрофон можно не включать, сидеть у компьютера или с гаджетом в руках не обязательно.
Достаточно просто знать, что другие люди в тот же момент занимаются тем же самым — бездействуют вместе с тобой. То, что может показаться нонсенсом или ленью, на деле оказывается эффективным психологическим средством. Бездействие — согласие остановить на время череду привычных мыслей, выключиться из рутины событий, освободиться от обязательств и социальных ожиданий, не стремиться все успеть и всех перегнать. Бездействие — не терапия, оно далеко от направленного воздействия или какого бы то ни было обучения. Пребывание с людьми, разделяющими твои понятия и ценности, целительно само по себе, будь оно оф- или онлайн. Оно снимает груз вины, которую обычно испытываешь за то, что чего-то не сделал, не выполнил, не достиг того, чего мог бы достичь. Это возможность, при помощи других, остаться наедине с собой, приоткрыть свое истинное Я и тем самым восстановить жизненные силы. Такая практика еще раз показывает, насколько нераздельны физическое и психологическое, соприсутствие тел и соприсутствие душ — как офлайн, так и онлайн."
Ирина Сироткина
"Теория моды", выпуск 59, 2021
Ссылка на публикацию:
https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/tm_59_1_2021/article/23376/
Музеон
Экспериментальная лаборатория INSIDE
Экспериментальная лаборатория INSIDE
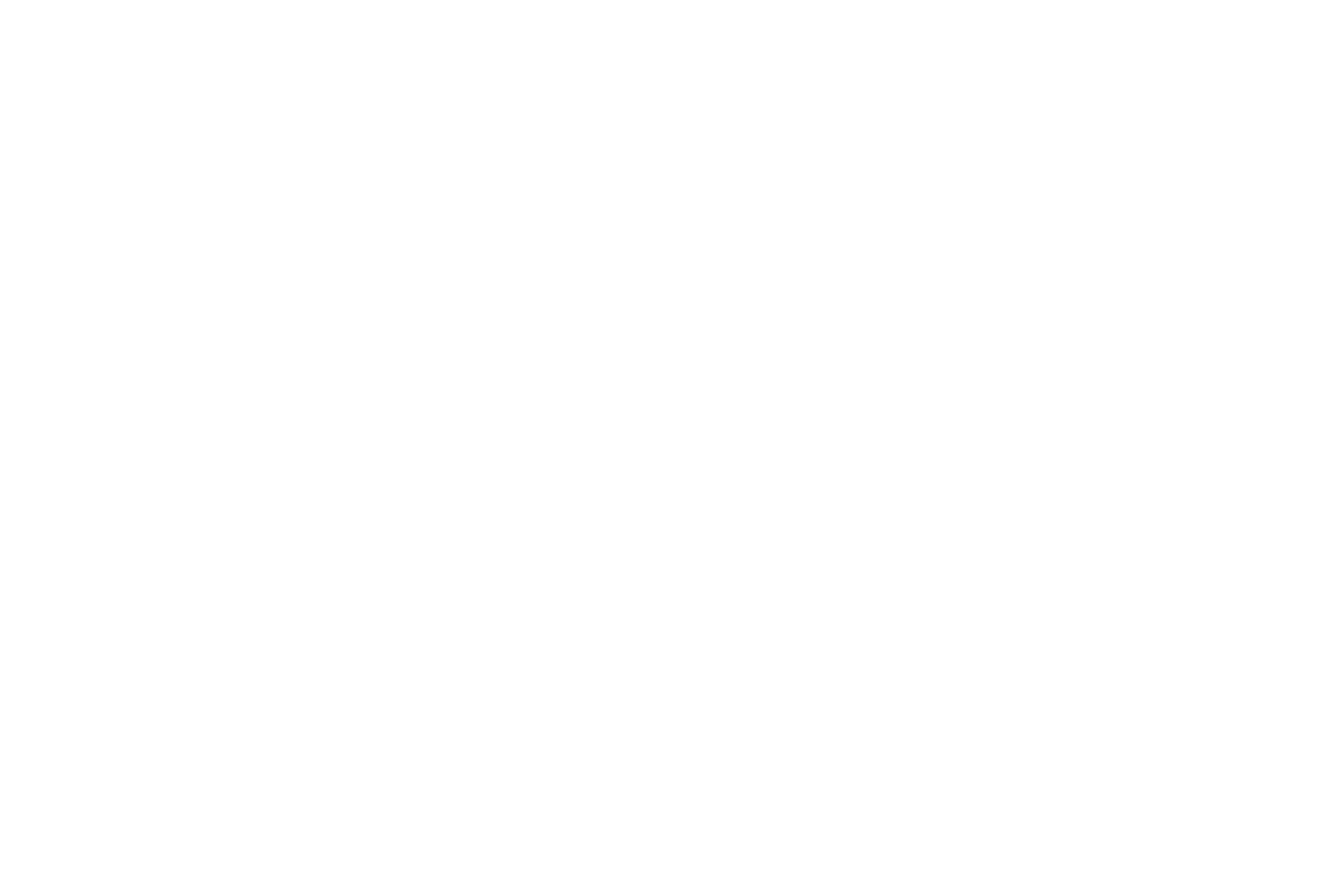
Коллективная практика бездействия, Экспериментальная лаборатория INSIDE, Музеон, 2020
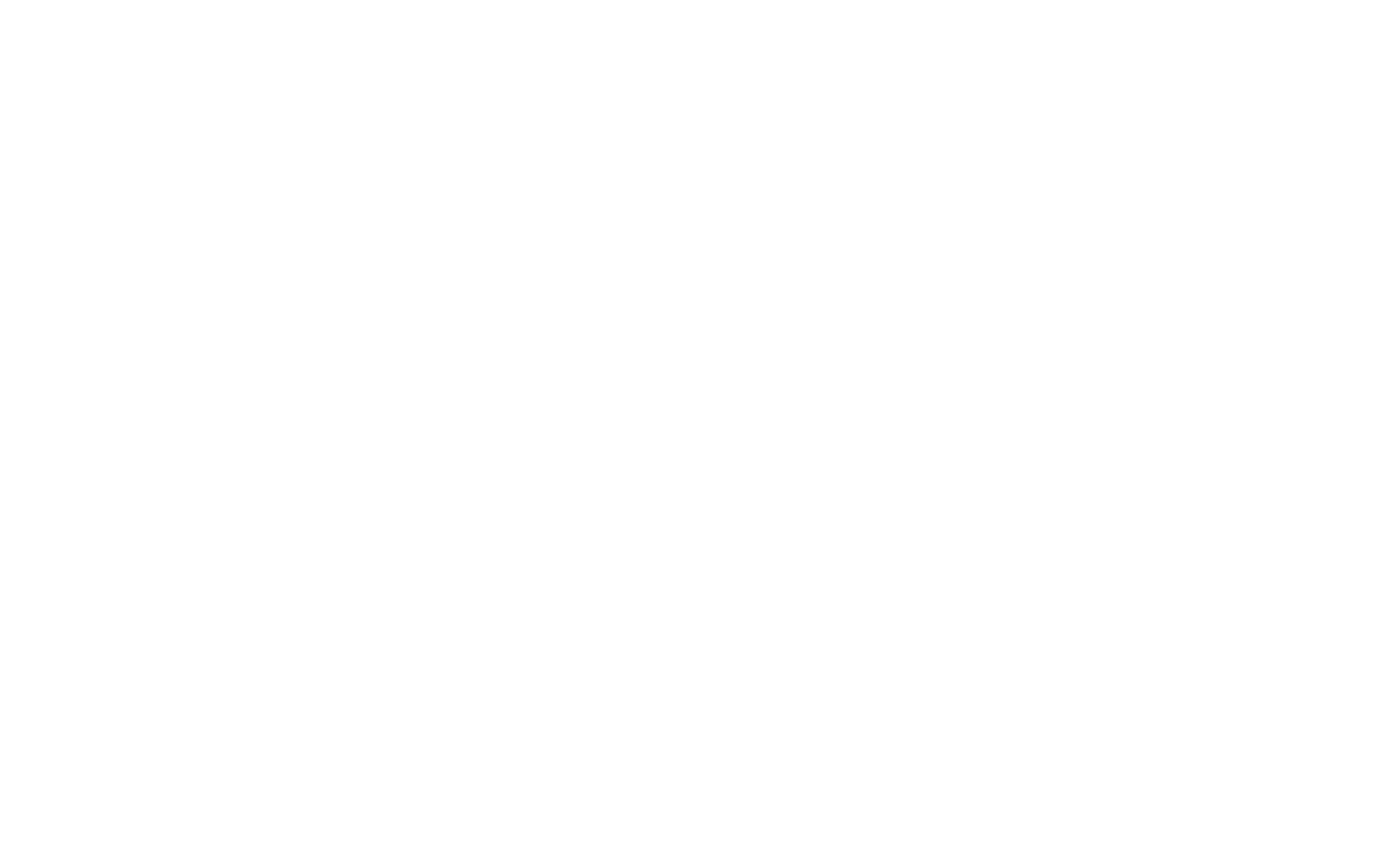
Коллективная практика бездействия, Экспериментальная лаборатория INSIDE, Музеон, 2020
ЦТИ Фабрика
Финисаж выставки Оксаны Юшко "Время действия сети",
Финисаж выставки Оксаны Юшко "Время действия сети",
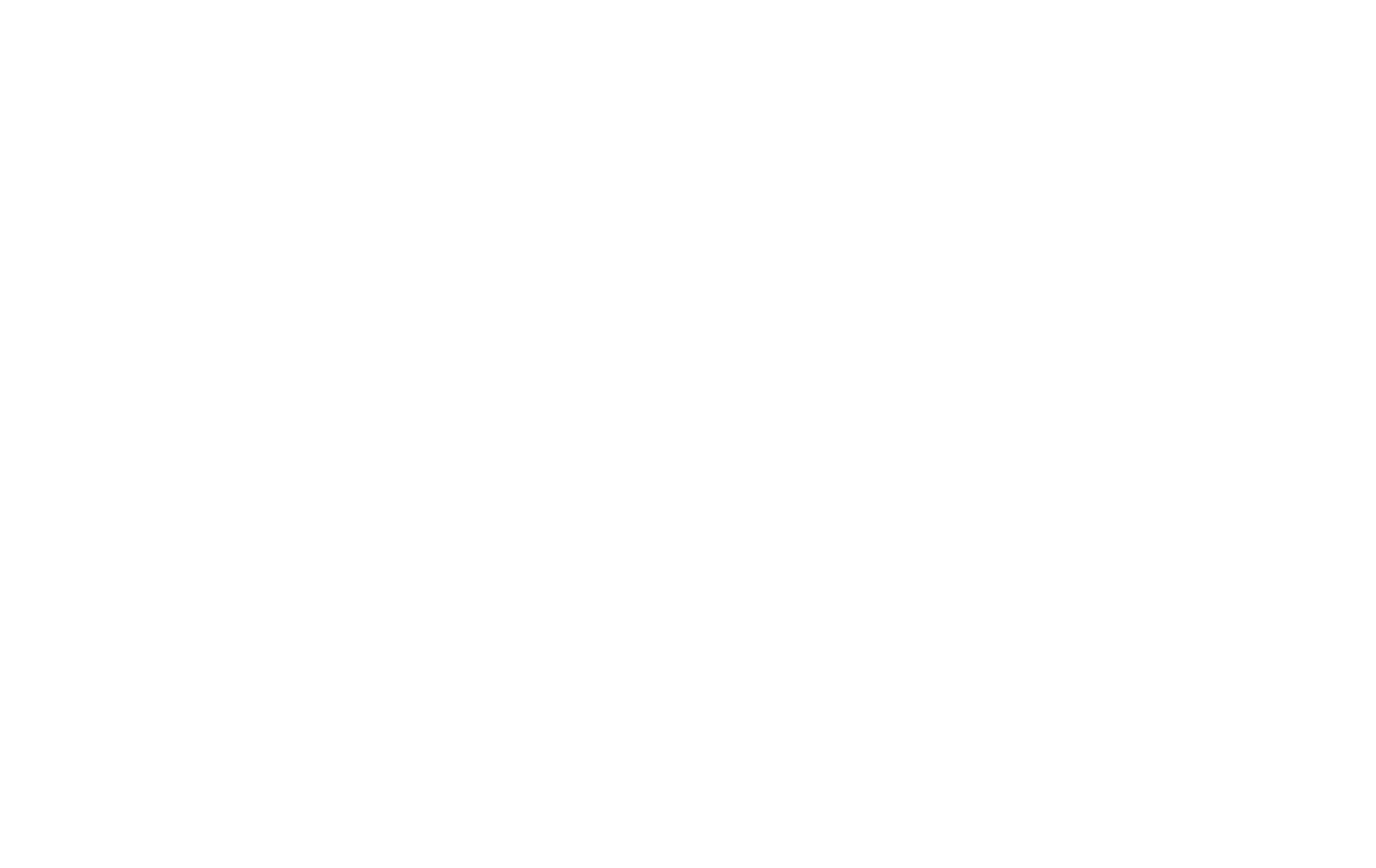
Коллективная практика бездействия в рамках выставки Оксаны Юшко "Время действия сети", ЦТИ Фабрика, 2020г.
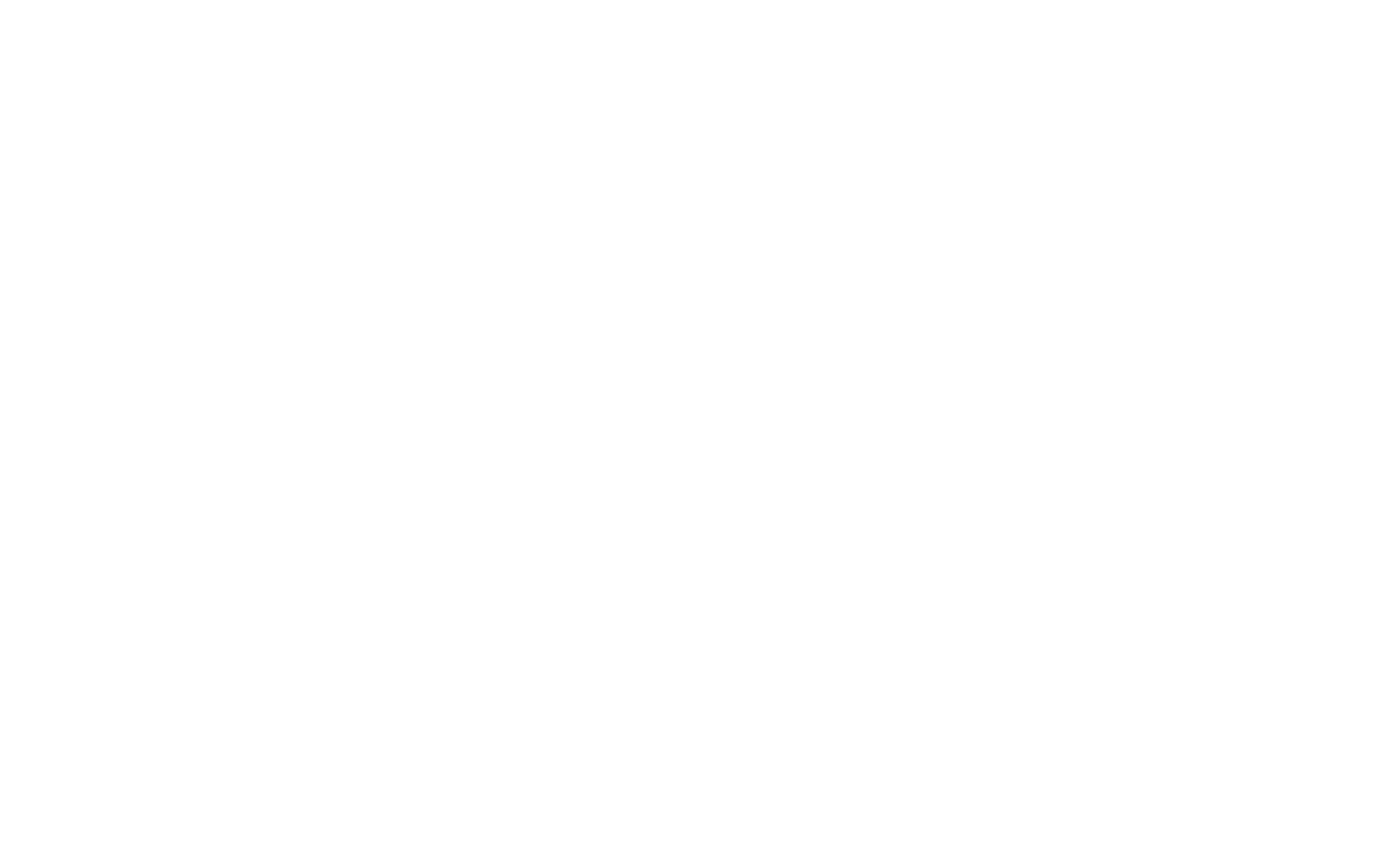
Коллективная практика бездействия в рамках выставки Оксаны Юшко "Время действия сети", ЦТИ Фабрика, 2020г.
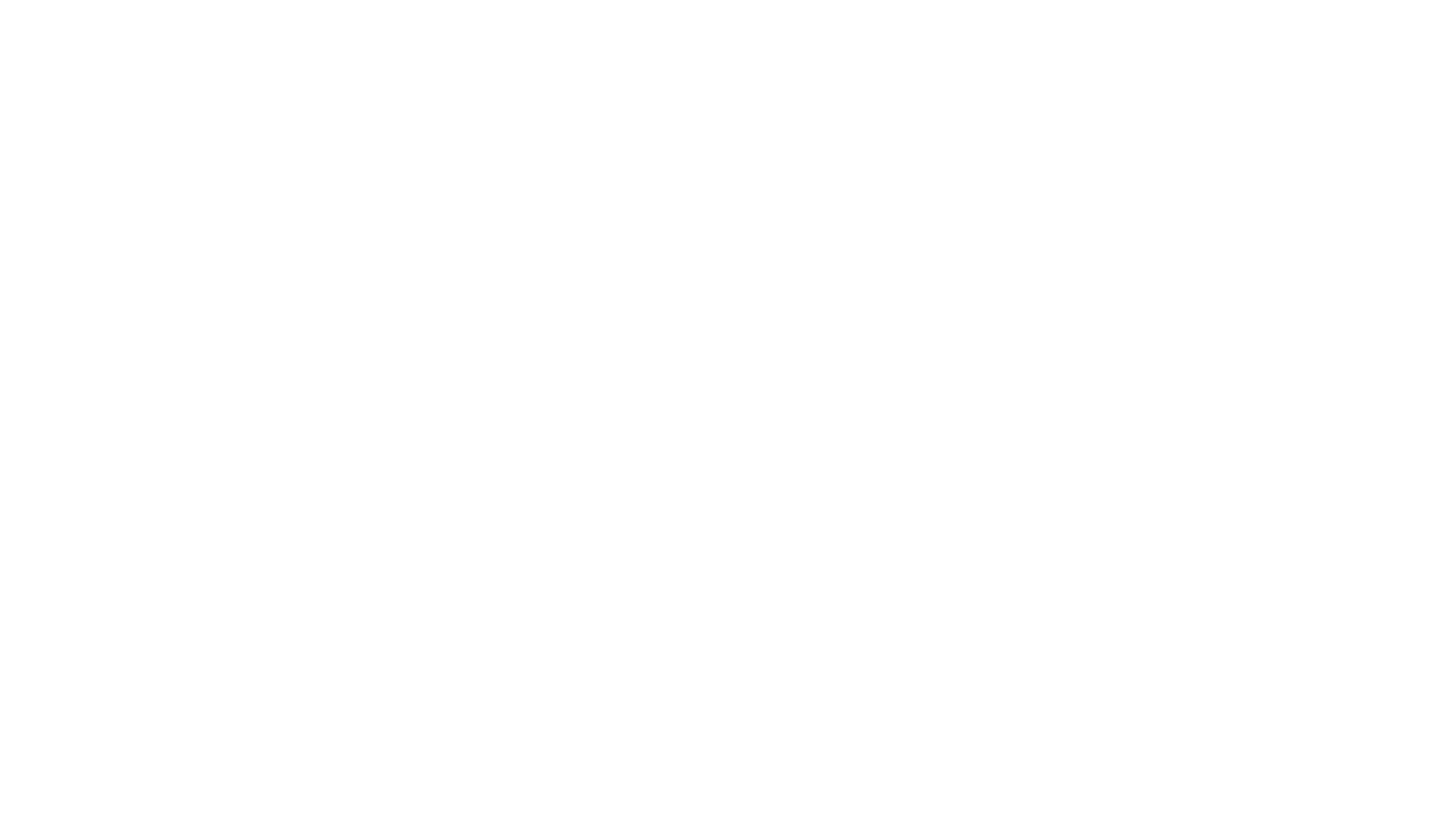
Коллективная практика бездействия в рамках выставки Оксаны Юшко "Время действия сети", ЦТИ Фабрика, 2020г.
Электротеатр Станиславский
Театральный перформанс "Из Сказок Мира" совместный проект с ВШЭ
Театральный перформанс "Из Сказок Мира" совместный проект с ВШЭ
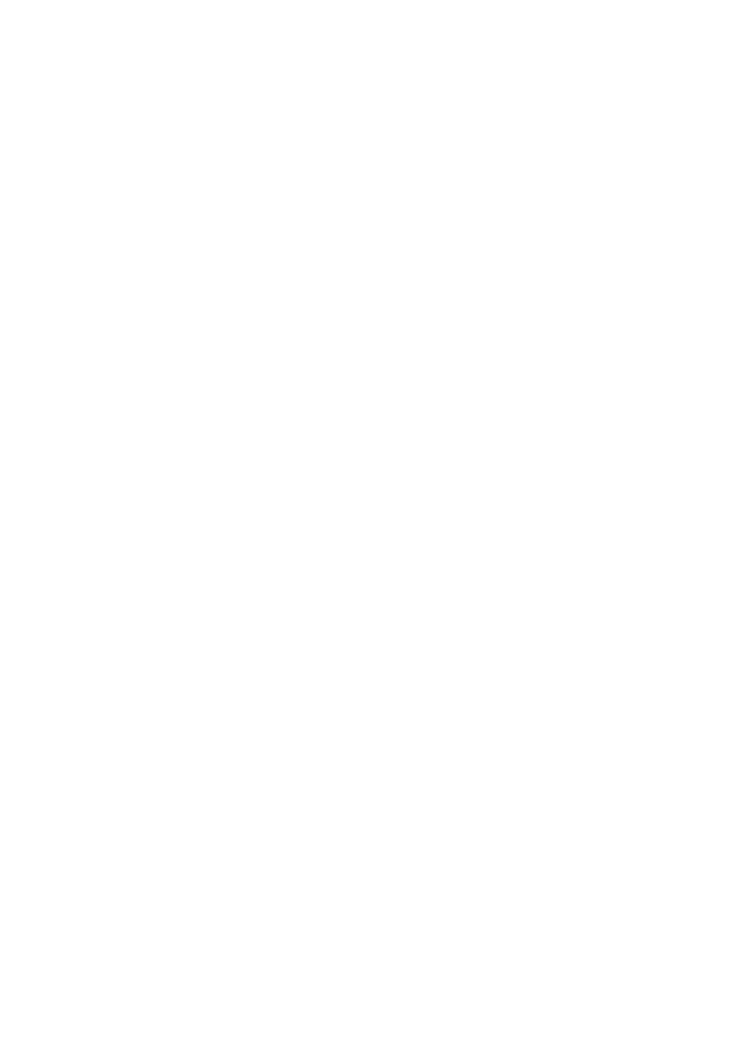
Архстояние
Перформанс-практика Поле Бездействия
Перформанс-практика Поле Бездействия
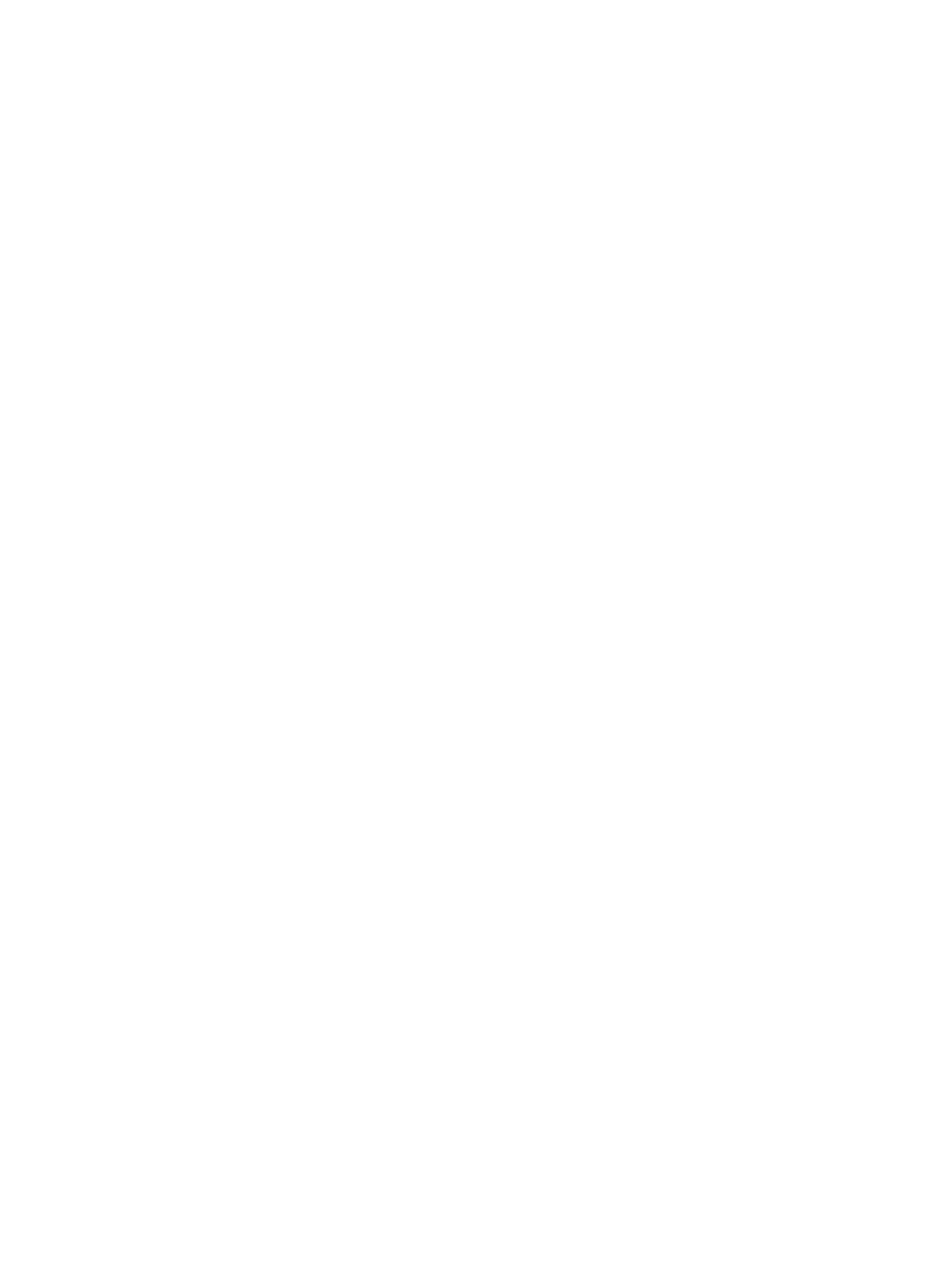
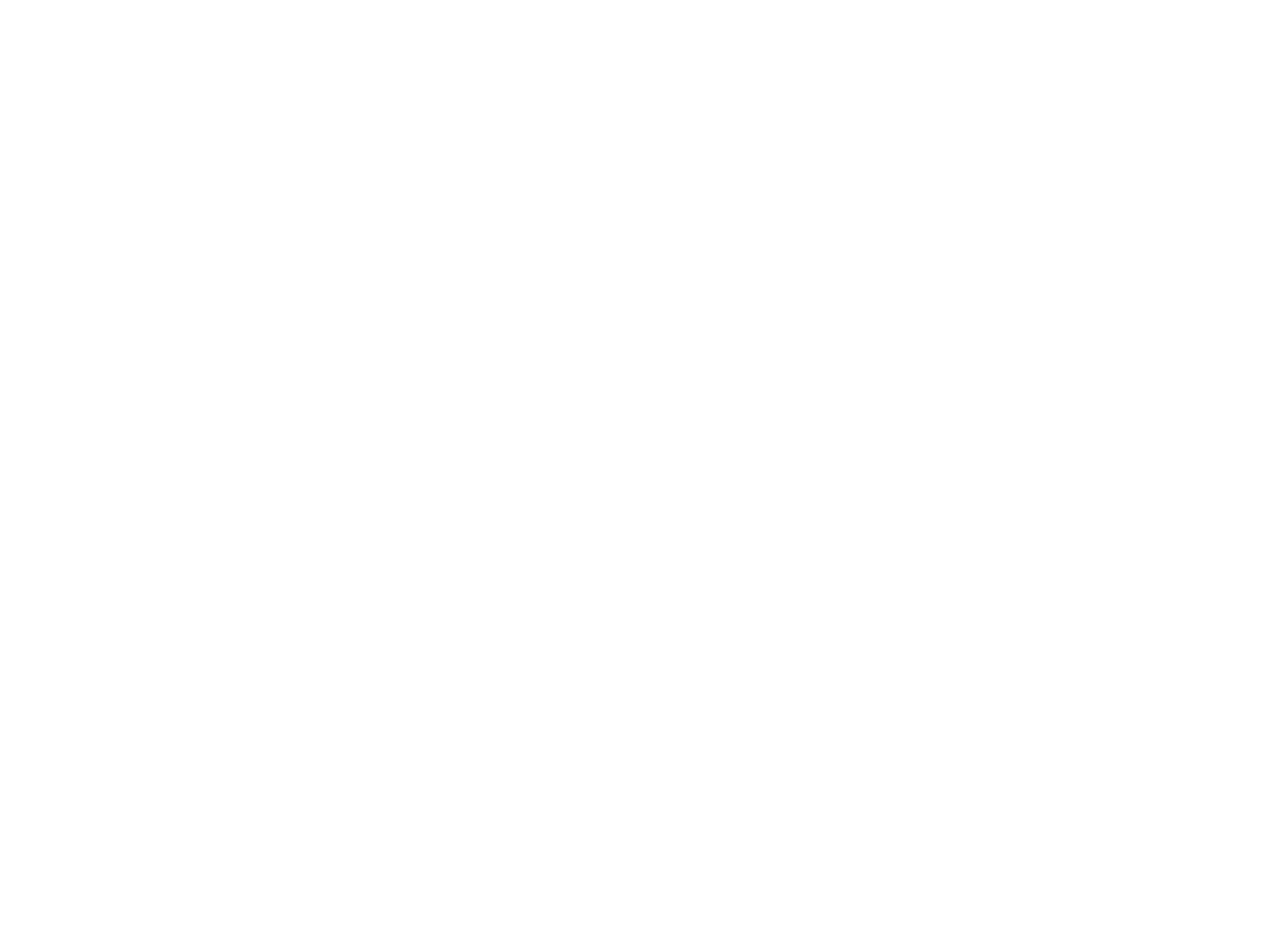
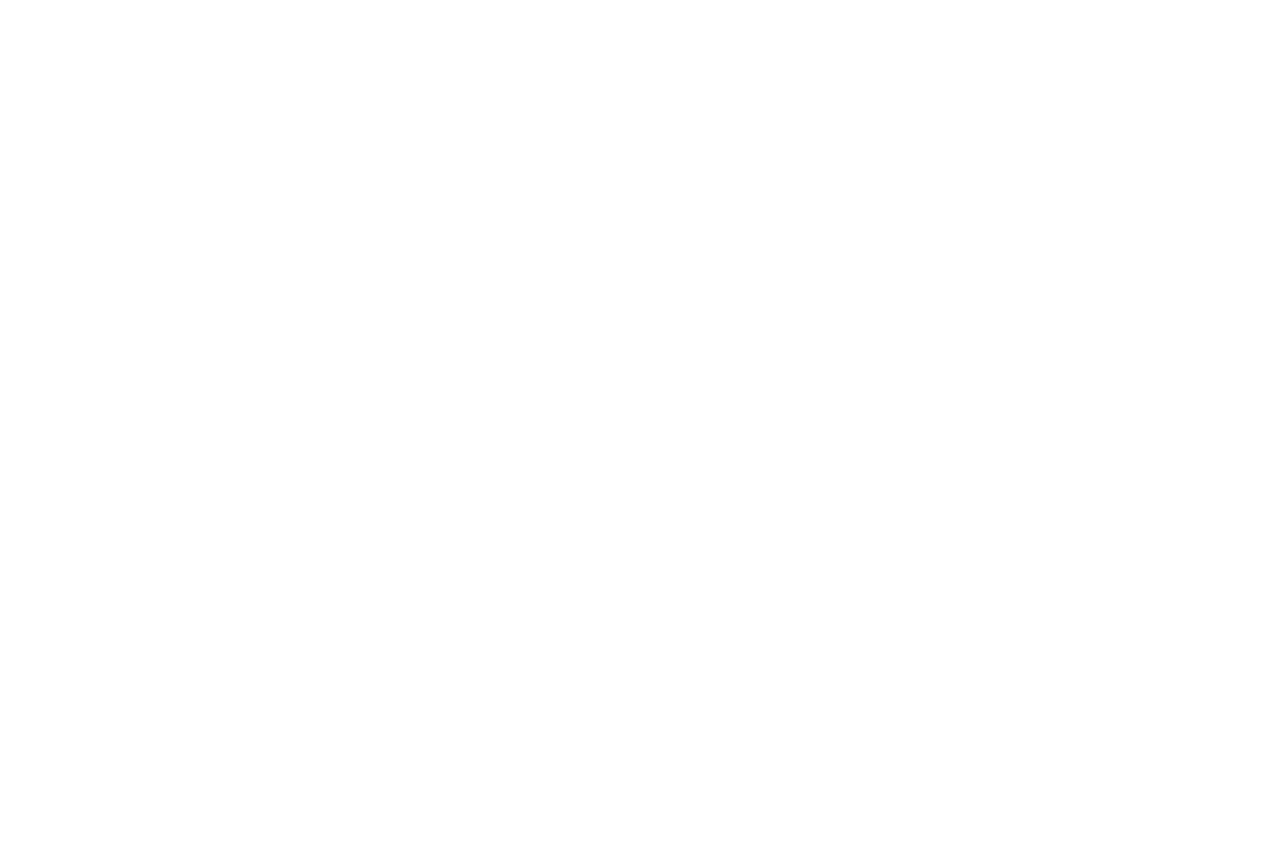
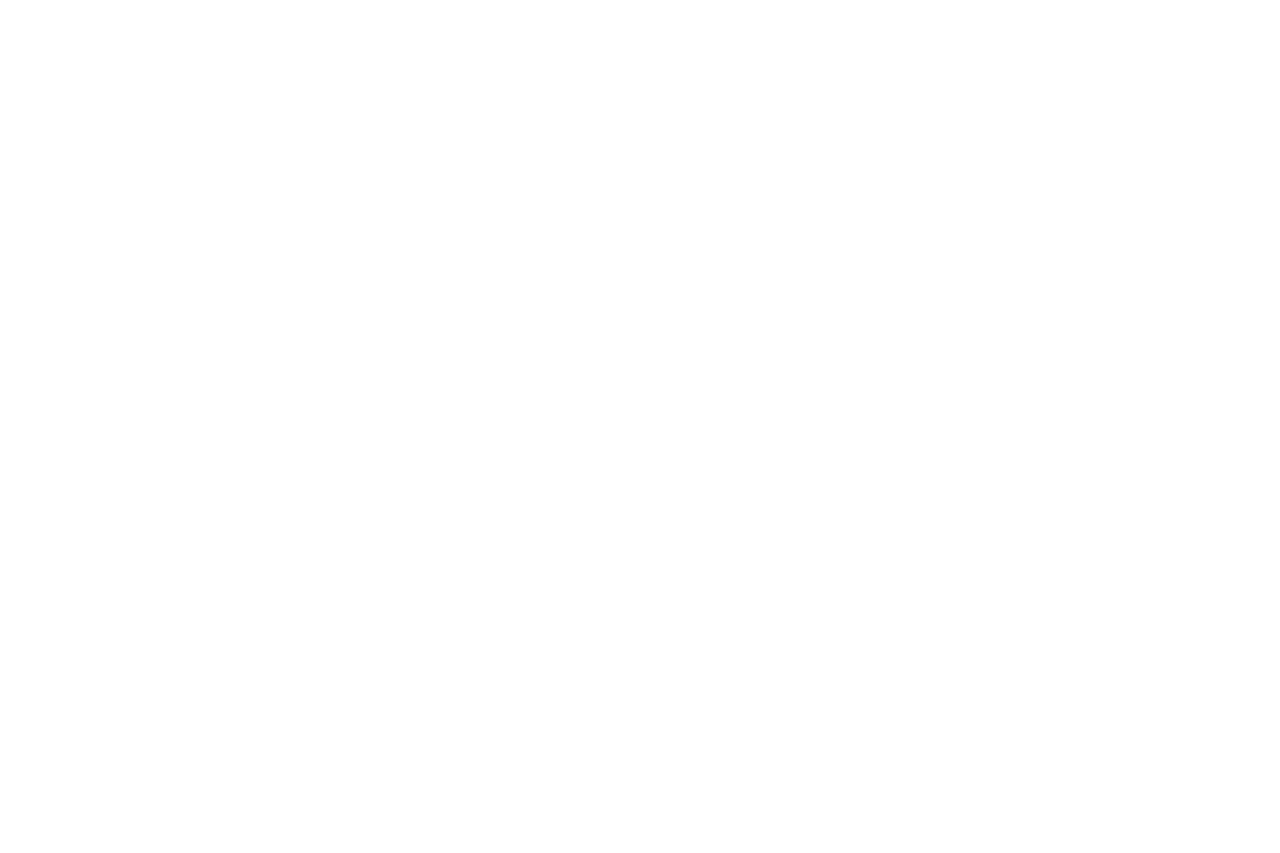
Опыт проживания бездействия участников практики
«Практика бездействия открыла для меня пространство наблюдения и тишины…
Сначала я просто наблюдала за светом струящимся из окна, время шло к закату и было интересно наблюдать как краски дня меняют пейзаж, потом от окна я переместилась в кровать, в то место, которое подготовила для глубокого погружения в практику, прошлась вниманием по телу, позволила себе расслабиться, но не хотелось уходить в сон, я стала просто наблюдать за светом, как он ложится на поверхности в комнате, потом включились звуки (лай собаки за окном, шорохи в дома, скрип двери), все мое внимание ушло в эти звуковые и визуальные картины. Было интересно просто быть и наблюдать как бы со стороны, потом был момент ухода во внутреннюю тишину, я закрыла глаза и уже не видела, но продолжала слышать жизнь во вне…
Спустя какое-то время я снова открыла глаза и обнаружила, что уже совсем стемнело и захотелось вернуться к тому окну, от которого началось путешествие. Я села у окна и начала наблюдать за огоньками вдали, как они неожиданно включались, перемигивали. Я позволила себе просто остановиться и наблюдать, но при этом прочувствовать глубокую причастность к тому миру, который случается за окном. В какой-то момент, захотелось плакать, было что-то мимолетное из детства какое-то беспечное чувству ничегонеделания, наблюдения и позволения себе быть в этом, расслабиться, наконец расслабиться. Я перевела взгляд на подоконник и увидела рассаду помидоров, которую наблюдаю каждый день, но сейчас я смотрела на нее совсем другими глазами, я смотрела на нее таким внимательным взглядом, что еще чуть-чуть и я бы могла заметить как она растет.
Обыденность в бережном наблюдении для меня позволила восстановить ту тонкую ниточку, ту связь, которой я сопричастна этому миру. Мое бездействие стало зеркалом действия Мира в его непрерывном бесконечном потоке.
Ценность практики для меня в возможности получения этого опыта, в возможности обретения на какое-то время этой связи.
Девочки, спасибо вам за эту возможность, нашла силы написать, но еще в процессе, глубоко зашло».
Сначала я просто наблюдала за светом струящимся из окна, время шло к закату и было интересно наблюдать как краски дня меняют пейзаж, потом от окна я переместилась в кровать, в то место, которое подготовила для глубокого погружения в практику, прошлась вниманием по телу, позволила себе расслабиться, но не хотелось уходить в сон, я стала просто наблюдать за светом, как он ложится на поверхности в комнате, потом включились звуки (лай собаки за окном, шорохи в дома, скрип двери), все мое внимание ушло в эти звуковые и визуальные картины. Было интересно просто быть и наблюдать как бы со стороны, потом был момент ухода во внутреннюю тишину, я закрыла глаза и уже не видела, но продолжала слышать жизнь во вне…
Спустя какое-то время я снова открыла глаза и обнаружила, что уже совсем стемнело и захотелось вернуться к тому окну, от которого началось путешествие. Я села у окна и начала наблюдать за огоньками вдали, как они неожиданно включались, перемигивали. Я позволила себе просто остановиться и наблюдать, но при этом прочувствовать глубокую причастность к тому миру, который случается за окном. В какой-то момент, захотелось плакать, было что-то мимолетное из детства какое-то беспечное чувству ничегонеделания, наблюдения и позволения себе быть в этом, расслабиться, наконец расслабиться. Я перевела взгляд на подоконник и увидела рассаду помидоров, которую наблюдаю каждый день, но сейчас я смотрела на нее совсем другими глазами, я смотрела на нее таким внимательным взглядом, что еще чуть-чуть и я бы могла заметить как она растет.
Обыденность в бережном наблюдении для меня позволила восстановить ту тонкую ниточку, ту связь, которой я сопричастна этому миру. Мое бездействие стало зеркалом действия Мира в его непрерывном бесконечном потоке.
Ценность практики для меня в возможности получения этого опыта, в возможности обретения на какое-то время этой связи.
Девочки, спасибо вам за эту возможность, нашла силы написать, но еще в процессе, глубоко зашло».
Онлайн-журнал V-A-C Sreda
подкаст о воздухе в перформансе
подкаст о воздухе в перформансе
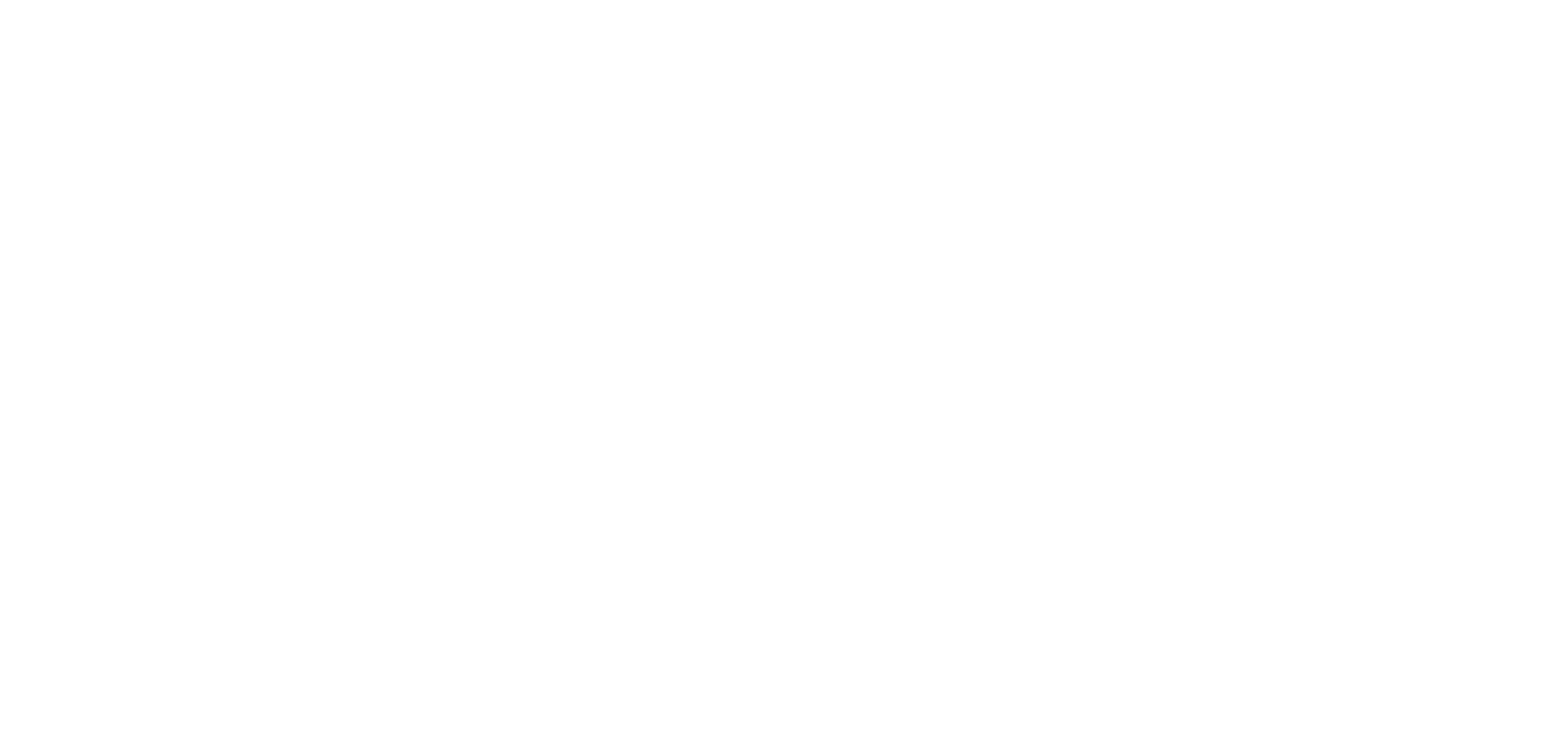
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОДНОМ МЕСТЕ
Когда мы едем в путешествие, мы меняем место, среду, острее замечаем разницу и улавливаем изменения. Путешествия обращают наше внимание на отношения с пространством и временем, разделяя его на отрезки до и после.
Путешествие как возможность увидеть реальные объекты будто это панорама самих себя.
Участники фиксировали повседневные ритуалы, которые структурируют жизнь, формируют быт, отражают идентичность через повторяющиеся действия.
Путешествие как возможность увидеть реальные объекты будто это панорама самих себя.
Участники фиксировали повседневные ритуалы, которые структурируют жизнь, формируют быт, отражают идентичность через повторяющиеся действия.
Cреда обитания, из чего она состоит?
Какой я в этой среде, каким я могу быть и как я могу влиять на свою среду обитания?
Я изменяюсь и как это влияет на мою среду обитания?
Как я определяю себя через место?
Что моя среда рассказывает мне о себе самом?
Что наше тело рассказывает нам о себе самих, о наших способах мыслить, действовать, чувствовать, ощущать?